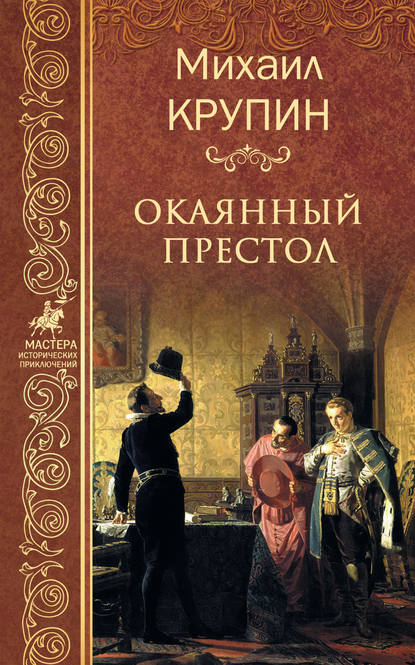По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Окаянный престол
Год написания книги
2003
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но скоро ему померещился темный лес на берегу Монзы; выставив жалобно руки, он продирался куда-то следом за матерью и за отцом, но мокрые ветви орешника все сильней били по лицу, холодные брызги слепили – и мать, и живой отец уходили сквозь рощу все дальше, не слыша сыновьего крика… Лес сметался глуше, вдруг всем станом покачнулся, проплыл, и на место его сумрачного полузабытья явился синий жар крепких небес, к солнцу вели острия-шатры башен кремлевских, соборные кресты…
Но мокрые кусты еще хлестали и брызгались, Отрепьев заморгал и приподнялся на локтях, на чьих-то подсобляющих ладонях. Духовный старец (где ж виданный прежде?) в ярком сакосе и митре стоял пред ним. Старец макнул широкую бахромчатую кисть в горшок и еще раз, прямо в глаз Отрепьеву, метнул водой.
В чистых дымках кадил за старцем виделся прекрасный, слабо выпевающий молебен строй. Увидев дальше круглый Лобный холм и сказку вечно расцветающих шатров храма Василия, цесаревич вполне внял сему месту и вспомнил, что сам обязал всю эту высшую церковь встретить и возвеличить его.
Архиепископ Арсений (Отрепьев припомнил и старца) опустил свою кисть и принял из рук ближнего священника огромную икону. Царевич, оттолкнув поддерживающих, снова присел на колени, немного утерся и приник губами к теплому холсту, к оливковой руке Благого.
Сзади ударили литавры, взыграли боевые сурны, польский марш атаковал псалмы медлительной Московии – это заметили гусары, что царь их снова бодр и резв – воплощали ликованье в звуки. Лица поющих русских сильней вытянулись – раскрываясь ртами, напряглись полосами румянца, но одолеть хоровым распевом трели задиры-Литвы не могли. Иные иереи потрясенно уже озирали новоповелителя: ну – пускает он во время сна великого богослужения мирскую свистопляску иноземцев!.. Отрепьев сам почуял скорбь святителей, не ускользнуло от него и то, что лик предвечный поднял на иконе, предостерегая, руку, хоть за него и так архиепископ подле лика поет уже осмысленно и укоряюще.
– Янек, оставь, я оглохну! – выкрикнул царь, но Бучинский, размахивающий самозабвенно саблей перед музыкантами, кроме литавр и труб, не слышал пока ничего.
Только Отрепьев подумал подняться с колен, чьи-то горячие сухие руки кинулись помогать, снова освоили царские локти. Отрепьев, встав, оглянулся – старинное, истово-испуганное личико дрожало перед ним, за ним.
– Не помню, хто?
– Бельский азм есмь, Богдан, – пропел старик-боярин. – Давесь-то в шатре, как мя предстали, ты ж воспомнил, батюшка, мою брадишку. Я ж Бельский, твой няня, – с глупых лет Митеньку в зыбке качал, сица впал в опалу Годунову.
Отрепьев вспомнил давешнее подмосковное знакомство с видными боярами – промельки вопросов… Плутует Бельский или впрямь решил, что повстречался с возмужавшим пасынком? Глазами поискал вблизи путивльских друзей – как их мнение? Мосальский и Шерефединов, самые ближние, понятливо, живо отозвались. Василий Мосальский, вмиг прозрев в прищур очей царевича, быстро сам сыграл зрачками: мол, старик – паршивец, все как следует. Шерефединов же, отведавший недавно государевой нагайки, не смел поднять трепещущих ресниц, – только сорвав с головы пышный малахай, спешно стал обметать ураганную пыль с одеяния Дмитрия. Как бы опамятавшись, поскидав шапки, за ним последовали Бельский и Мосальский; стали совать, протискивать свои собольи, лисьи колпаки иные. Белое платье царевича покрылось черными, втертыми в шелк полосами, прорехи, чуть намеченные бурей, поползли по швам.
Усилиями государства был оставлен наконец молебен, приглушена немного полковая музыка, государь прошел переодеться в Кремль. Взяв на угол бороды, примкнув к плечам хоругви, архиереи двинулись вослед – дослуживать в Успенском и Архангельском соборах. Бучинский с польской свитой сквозь Фроловские ворота проскакал вперед – принять по описанию палаты.
Завидев из-за ратной цепи удаляющееся торжество, народ московский застонал, налег на длинные топоры воинов – он, оказалось, ждал все к себе царского слова.
– Чертища, как я в сем виде на Лобный помост взойду? – прикрывался полой чистой епанчи князя Воротынского Отрепьев, хотя ему тоже не терпелось провозгласить с возвышенья подбег к Москве страшного счастья, надвинувшееся половодье всяких благ. – Ладно уж, Бельский, пока ты – на помост, расскажи людям, как от Бориса меня в зыбке прятал… А ты, русский боярин, – дотянулся Отрепьев, стиснул пальцами круглую мышцу под воротом песцового Шерефединова, – ты веди – платья, палаты показывай… да, слышь, один теремок не забудь, – добавил полухрипом, полушепотом.
– Я помню, помню, бачка-государь, – присев, заламывая на бок шею – будто с боли, уверял шепотом же Шерефединов – старался морщить как-нибудь по-русски, жалостно, широкое, как дутое изнутри лицо. – Я помню… там… за Грановитой юртой сразу… малый деревянный крыша… большой сердитый кошка смотрит в окно…
Ксюша Годунова не примечала уже смены суток в общей тоске продвижения вечности. Запертая с постельничей девкой Сабуровой в разграбленном теремке, она лежала на жесткой скамье вверх лицом – без слезы, слова или надежды ужиться с обортнем-миром. Не слыша укоризн боярышни-служанки, не понимая лакомого духа подносимых блюд, смотрела то на сумеречный потолок в крюках оборванных паникадил, то на смеющийся черный рисунок оконной решетки. Когда узорный оскал чугуна, обагряясь, тускнел, потом быстро тонул во мгле, с летних небес два серебряных лучика никли к низложенной пленной царевне, точно вдали затепливали херувимы две свечи в память Феди и мамы, или родные несчастные сами, всем светом своим, окрепшим и умудренным в посмертной отраде, своей Ксюше уже подавали особый пресветлый знак. Этот знак, отправляясь из горних пространств полнозвучным и радостным, достигнув Земли, оборачивался для внимающего щемящей страшной печалью, ибо сюда являлся истощенным, объятым и оглушенным пустынною тьмой. Неприкаянным и бессловесным.
Земная русская вечность делала новый виток – звездочки-знаки истаивали в водянистом рассвете. Девка Сабурова, проснувшись, нависала над Ксюшей и, вздохнув тяжко, будто сама напролет не спала, опускала колени на коврик, начинала опрятно постукивать о половицу лбом – открывала молитву, а с ней и темничные новые сутки. После, припав к створке низенькой двери, долго бранилась с наружной охраной, визжал засов, гремели умные басы ландскнехтов, и вновь Сабурова легко касалась царевниных прохладных губ теплыми большими ложками, вмиг вызывающими – сквозь небытия – своими ароматами тонкую прелесть той жизни – окруженной дивным теплом трепета жизней родных, еще вчера вкушавших за одним столом дары Господни…
Однажды, когда царевна перестала уж различать всякую силу дымков над подносимыми ложками, вошедший в светлицу-камору дворянин Шерефединов, склонившись, разжал ей кинжальными ножнами рот и прилежно стал полнить пленницу разною разностью. Жидкие яства он сразу, только радуясь кашлю царевны, отправлял в глубину под гортань, что же потверже – короткими пальцами толкал под язык, рассылал вокруг десен, держал перед зубами, – и так кое-чем накормил, обеспечив опять земное бесконечное существование.
На другой день невольница впервые приподнялась на лавке и, чтобы избежать ужасного насилия кормлением, немного поела сама и впервые чуть слышно поплакала. Шерефединов, в меру рассудка наблюдавший подопечную, на радостях принес в каморку пышного иранского кота, схваченного вестовыми Дмитрия на дворцовом темном чердаке, где тот с мая месяца скрывался от восставшего народа.
Заплакав человечьим голосом, зверь обнял бедную нашедшуюся госпожу, и был тут же удален, не сделавший увеселения, укрепивший ту же скорбь. Ксюша, страшась приказывать Шерефединову и не умея попросить убийцу родных, чтоб оставил ей перса, лишь завела пустынные глаза к разгромленному своду и так оставила до нового утра.
С тех пор как пленница начала изредка принимать яства, Шерефединов зачастил в ее темницу. Нередко он раздевал Ксюшу, – мерно урча, странствовал шероховатой ладонью по белым изгибам, притихшим движимым холмам, раздвигал ноги невольницы… Но каждый раз, вдруг заругавшись по-татарски с подсвистом, сдвигал снова ноги и одевал: берег, хотел отцу на Рамазан сделать хороший подарок.
Однородная вечность летела – только в чугунных узорах окна дольше стыл белый свет, меньше задерживалась тьма. Девка Сабурова, по вопросам хозяйства имевшая доступ на двор, приносила оттуда ненужные Ксении новости. Самозванец в Серпухове… Стали отстраивать боярские подклети, сметенные майским народом, встречавшим казаков Корелы и Гаврилы Пушкина… Царевич под Коломной, цены в Москве вновь вздымаются… Дмитрий уже под Москвой.
В день въезда самодержца в город Сабурова уговорила немца охранения взять ее на кремлевскую стену с собой – посмотреть с высоты окаянного Дмитрия-Гришку. Обратно, в Ксюшину темницу, влетела разгоряченная, захватанная немцами, стрельцами.
– Ой, не поспела, не видала ничего! Народу – луг! Красна-площадь – что цветной капусты поле! На Лобном месте твой, Аксиньюшка, дядька стоит – покойной мамы-то брат двоеродный Бельский. Людям кричит – мол, он царевича баюкал на груди, сейчас узнал его мхновенно – обману, значит, нет и наплюйте на того, кто вам брехал про беглого монаха…
– Монаха…
Ксения, качнувшись на русых неплетеных волнах, села на лавочке. Далекий образ инока, восторженно упавшего перед ее возком, снова ясно воскресил простое утро детства – словно свет хорошего беспечного лица скользнул вблизи… Ах память, странная, случайная, что ты морочишь сердце? Из сотен лиц ты выбираешь самые далекие, крылатые, легко и безвозвратно пропархавшие, и жить велишь надеждой и неверием во встречу. Вот скажи, как тот, кто без следа исчез в безветренные времена, может явиться в гости через семь затворов в страшную годину? Не чует он, что делается с Ксюшей, и не придет из-за семи своих святых лесов, размахивая, как мечом, крестом, вращая булавой кадило, освободить позабытую… Но нет, – Ксения жестко уперла в кулачки легонький подбородок, – когда царевны погибают, инокам же сообщается тоже о них, так что не может он не знать… хотя бы не подумать… И оружием его, моей защитой, конечно, станет лишь неловкая молитва – от отшельничьей землянки в монастырской роще, вблизи источника святой воды…
– Ой, святы-батюшки-угодники, чур меня, чур! – метнулась от окна Сабурова, – ой, с нами крестная сила! – по двору прокатился чудовищный топот и бранный лязг. Ксения, привстав на цыпочках, из-за накосника Сабуровой увидела только – один воин темничной стражи, сорвавшись с крыльца, протянулся на аспидных плитах, сверху на стражника плашмя упал его топор, и пока не было известно никому – насколько воин поврежден, он сам разумно замер и смотрел на мир из-под рифленой плоскости секиры.
В тот же короткий миг дверь в Ксюшину каморку распахнулась, тускло блеснув, парчовый занавес отдернулся, и перед Ксенией (Сабурова давно вползла под лавку) затрепетал так смело, явленно один из ее снов, что на какое-то время царевна поверила необъяснимой яви.
На пороге стоял тот самый, далекий, канувший из патриаршего причта, монах, Ксения разом узнала его: все то же безусое, хоть похудевшее лицо, пресветлые кудри, тот же прячется прыщик под носом. Все его платье полосато, серо от песка и пыли, надорвано в иных местах, на поясе кривой клинок – как же ты, монах Ослябя, прорубился? За дверью – всюду – тяжкие и спешные шаги.
– Слушай, беги! – крикнула Ксения, впивая радостного схимника-заступника глазами. – Беги, теперь мне немного осталось, некого переживать… Спеши, ведь тебя схватят: здесь близко ходит сейчас это чудо, Отрепьев… Я вспоминать теперь буду, как ты приходил, время побежит быстро.
Инок шагнул к ней, качнулся круглый, незнаемый лик у него на груди, на червленой цепи.
– Государь-батячка, я карашо кармил! – вдруг сбоку, из-за плеча инока выглянул Шерефединов. – Еще вчера, государь, говорила как умная!
– Кто… государь? – слетело то ли с губ, может, с ресниц невольницы.
– Ну да, – разулыбался избавитель. – Проси теперь, краса, что любишь, и люби как хошь, я – государь!
– Дмитрий Иванович, дурында, наклоняйся в ноги Дмитрию Ивановичу! – защебетали, засвистали отовсюду стайки голосов – смешливых, истовых, дрожащих.
– Неправда. Это все во сне, – сказала слабо царевна. – У меня сны такие, там хорошие вдруг превращаются в страшных…
И ловко закрыла руками глаза – на миг очнуться опять рядом со сказочным схимником, вошедшим и оттолкнувшим орду самозваных губителей царской земли.
Петр Басманов, принявший Стрелецкий приказ под начало, на время сделался также главой государева сыска. Отдыхая от стройных и величавых доносов, боярин все возвращался к одной думке-закорюке, необходимости установить: как это горстке донских казаков удалось с хода занять стольный, снабженный белой и красной стенами с задобренной сытой охраной, огромнейший город? И не сокрылось ли за показною лихостью казачьего налета что-либо из того, что теперь следует Басманову по должности подробно знать? А уж коли не было боярской каверзы здесь, смеха лицедейства, – и совсем хорошо: Петр Федорович, с радостью учения и дрожью ревности, изучит все тонкости славного штурма – оно ему надо, первому воеводе всех оружных сил Руси.
Басманов отправил рынд быстро выяснить – где на Москве стоят донцы, бить челом, звать с почтением в гости их атаманов.
Но рынды, быстро воротившись, доложили: кроме стоянки казаков из личной свиты Дмитрия, к смелым делам передового отряда Корелы не касательных, нет донцов-героев никаких. Басманов нерадивых рынд отдал под розги и, приказав ополоснуть водой, заново бросил на поиски.
Освеженные, будто прозревшие воины промчались по пещеркам-уличкам Китая, вертя конями, ерзая на седлах, морщась и рыча, допрашивая встречных-поперечных, просыпались сквозь путаное сито Белого города и заблудились в правильной немецкой слободе. Но понемногу рындам начало везти: в травянистых овражках, лиственных закоулках открывали пасущихся рысачков с коротко стриженной гривой, с подрезанным косо хвостом. Рядом с выгулом казацких лошадок чаще всего, притаенно или прямо, лубенел кабак, там рындам удавалось обнаружить по-за штофами надолго спешившегося, тяжкого наездника. В одном из кабаков конь находился прямо в помещении, – склонив чубарую занузданную голову под лавку, перебирал губами кудри неподвижного хозяина. Порой сурово всхрапывая, гремя подковами среди катающихся полом оловянных кубков, конь никого не подпускал к родному казаку, но, разглядев людей Басманова, опрятных и хлопотливых, рысак вдруг рыданул, закивал и даже преклонил передние колена – тем подсобляя рындам погрузить хмельного поперек седла. Казак уже не имел знаков малейшей жизни, влажные черные кудри нездешней повиликой оплели его помолодевшее и безнадежное – под платок застиранный – лицо.
– Игнатий, атаман готов! – сказал соратнику молодой рында, наудачу послушав через газыри черкески, пронизанной водочным духом, и не поймав теплого отзвука в тиши донца.
– Вези, брат, все одно к боярину, в приказ, – рассудил старший. А то опять урюта не поверит, под розги нас даст.
Для проворства дела закрепив кое-как атамана поперек на рысака, врасплох погнали к Басманову. Но по дороге то ли ветерком донца обдуло, а может быть, мерные толчки крупа друга-конька пустили ему сердце, но только вскоре атаман стал подымать косматую степную голову, потом весь распрямился, хрустнув яростно суставами, и, изловчившись, сел в седло – с натугой хрипнул голос:
– Которое время?
Петр Федорович радостно приветил атамана, большие полководцы обнялись.
– Присаживайся, Андрей Тихоныч, рассказывай – где пропадал, как брал с ребятами Москву великим дерзновением?
– Да ну, не помню, – сморщившись, махнул рукой Корела и присел на стулик посреди пустой, обмазанной по алебастру известью светлицы. Соленого арбуза нет, боярин? Ах, москали не припасают? Хоть огуречного рассольцу поднесешь?
Басманов распорядился насчет ублажения гостя и снова спокойно напомнил Кореле вопрос.
– Вот заладил, – оторвался Андрей от зеленой живительной мути в разбитой для него четверти. – Ты скажи лучше, где государь?
– Вообще-то, наперво здесь отвечают на мои вопросы, – между делом заметил Петр Федорович.
Но мокрые кусты еще хлестали и брызгались, Отрепьев заморгал и приподнялся на локтях, на чьих-то подсобляющих ладонях. Духовный старец (где ж виданный прежде?) в ярком сакосе и митре стоял пред ним. Старец макнул широкую бахромчатую кисть в горшок и еще раз, прямо в глаз Отрепьеву, метнул водой.
В чистых дымках кадил за старцем виделся прекрасный, слабо выпевающий молебен строй. Увидев дальше круглый Лобный холм и сказку вечно расцветающих шатров храма Василия, цесаревич вполне внял сему месту и вспомнил, что сам обязал всю эту высшую церковь встретить и возвеличить его.
Архиепископ Арсений (Отрепьев припомнил и старца) опустил свою кисть и принял из рук ближнего священника огромную икону. Царевич, оттолкнув поддерживающих, снова присел на колени, немного утерся и приник губами к теплому холсту, к оливковой руке Благого.
Сзади ударили литавры, взыграли боевые сурны, польский марш атаковал псалмы медлительной Московии – это заметили гусары, что царь их снова бодр и резв – воплощали ликованье в звуки. Лица поющих русских сильней вытянулись – раскрываясь ртами, напряглись полосами румянца, но одолеть хоровым распевом трели задиры-Литвы не могли. Иные иереи потрясенно уже озирали новоповелителя: ну – пускает он во время сна великого богослужения мирскую свистопляску иноземцев!.. Отрепьев сам почуял скорбь святителей, не ускользнуло от него и то, что лик предвечный поднял на иконе, предостерегая, руку, хоть за него и так архиепископ подле лика поет уже осмысленно и укоряюще.
– Янек, оставь, я оглохну! – выкрикнул царь, но Бучинский, размахивающий самозабвенно саблей перед музыкантами, кроме литавр и труб, не слышал пока ничего.
Только Отрепьев подумал подняться с колен, чьи-то горячие сухие руки кинулись помогать, снова освоили царские локти. Отрепьев, встав, оглянулся – старинное, истово-испуганное личико дрожало перед ним, за ним.
– Не помню, хто?
– Бельский азм есмь, Богдан, – пропел старик-боярин. – Давесь-то в шатре, как мя предстали, ты ж воспомнил, батюшка, мою брадишку. Я ж Бельский, твой няня, – с глупых лет Митеньку в зыбке качал, сица впал в опалу Годунову.
Отрепьев вспомнил давешнее подмосковное знакомство с видными боярами – промельки вопросов… Плутует Бельский или впрямь решил, что повстречался с возмужавшим пасынком? Глазами поискал вблизи путивльских друзей – как их мнение? Мосальский и Шерефединов, самые ближние, понятливо, живо отозвались. Василий Мосальский, вмиг прозрев в прищур очей царевича, быстро сам сыграл зрачками: мол, старик – паршивец, все как следует. Шерефединов же, отведавший недавно государевой нагайки, не смел поднять трепещущих ресниц, – только сорвав с головы пышный малахай, спешно стал обметать ураганную пыль с одеяния Дмитрия. Как бы опамятавшись, поскидав шапки, за ним последовали Бельский и Мосальский; стали совать, протискивать свои собольи, лисьи колпаки иные. Белое платье царевича покрылось черными, втертыми в шелк полосами, прорехи, чуть намеченные бурей, поползли по швам.
Усилиями государства был оставлен наконец молебен, приглушена немного полковая музыка, государь прошел переодеться в Кремль. Взяв на угол бороды, примкнув к плечам хоругви, архиереи двинулись вослед – дослуживать в Успенском и Архангельском соборах. Бучинский с польской свитой сквозь Фроловские ворота проскакал вперед – принять по описанию палаты.
Завидев из-за ратной цепи удаляющееся торжество, народ московский застонал, налег на длинные топоры воинов – он, оказалось, ждал все к себе царского слова.
– Чертища, как я в сем виде на Лобный помост взойду? – прикрывался полой чистой епанчи князя Воротынского Отрепьев, хотя ему тоже не терпелось провозгласить с возвышенья подбег к Москве страшного счастья, надвинувшееся половодье всяких благ. – Ладно уж, Бельский, пока ты – на помост, расскажи людям, как от Бориса меня в зыбке прятал… А ты, русский боярин, – дотянулся Отрепьев, стиснул пальцами круглую мышцу под воротом песцового Шерефединова, – ты веди – платья, палаты показывай… да, слышь, один теремок не забудь, – добавил полухрипом, полушепотом.
– Я помню, помню, бачка-государь, – присев, заламывая на бок шею – будто с боли, уверял шепотом же Шерефединов – старался морщить как-нибудь по-русски, жалостно, широкое, как дутое изнутри лицо. – Я помню… там… за Грановитой юртой сразу… малый деревянный крыша… большой сердитый кошка смотрит в окно…
Ксюша Годунова не примечала уже смены суток в общей тоске продвижения вечности. Запертая с постельничей девкой Сабуровой в разграбленном теремке, она лежала на жесткой скамье вверх лицом – без слезы, слова или надежды ужиться с обортнем-миром. Не слыша укоризн боярышни-служанки, не понимая лакомого духа подносимых блюд, смотрела то на сумеречный потолок в крюках оборванных паникадил, то на смеющийся черный рисунок оконной решетки. Когда узорный оскал чугуна, обагряясь, тускнел, потом быстро тонул во мгле, с летних небес два серебряных лучика никли к низложенной пленной царевне, точно вдали затепливали херувимы две свечи в память Феди и мамы, или родные несчастные сами, всем светом своим, окрепшим и умудренным в посмертной отраде, своей Ксюше уже подавали особый пресветлый знак. Этот знак, отправляясь из горних пространств полнозвучным и радостным, достигнув Земли, оборачивался для внимающего щемящей страшной печалью, ибо сюда являлся истощенным, объятым и оглушенным пустынною тьмой. Неприкаянным и бессловесным.
Земная русская вечность делала новый виток – звездочки-знаки истаивали в водянистом рассвете. Девка Сабурова, проснувшись, нависала над Ксюшей и, вздохнув тяжко, будто сама напролет не спала, опускала колени на коврик, начинала опрятно постукивать о половицу лбом – открывала молитву, а с ней и темничные новые сутки. После, припав к створке низенькой двери, долго бранилась с наружной охраной, визжал засов, гремели умные басы ландскнехтов, и вновь Сабурова легко касалась царевниных прохладных губ теплыми большими ложками, вмиг вызывающими – сквозь небытия – своими ароматами тонкую прелесть той жизни – окруженной дивным теплом трепета жизней родных, еще вчера вкушавших за одним столом дары Господни…
Однажды, когда царевна перестала уж различать всякую силу дымков над подносимыми ложками, вошедший в светлицу-камору дворянин Шерефединов, склонившись, разжал ей кинжальными ножнами рот и прилежно стал полнить пленницу разною разностью. Жидкие яства он сразу, только радуясь кашлю царевны, отправлял в глубину под гортань, что же потверже – короткими пальцами толкал под язык, рассылал вокруг десен, держал перед зубами, – и так кое-чем накормил, обеспечив опять земное бесконечное существование.
На другой день невольница впервые приподнялась на лавке и, чтобы избежать ужасного насилия кормлением, немного поела сама и впервые чуть слышно поплакала. Шерефединов, в меру рассудка наблюдавший подопечную, на радостях принес в каморку пышного иранского кота, схваченного вестовыми Дмитрия на дворцовом темном чердаке, где тот с мая месяца скрывался от восставшего народа.
Заплакав человечьим голосом, зверь обнял бедную нашедшуюся госпожу, и был тут же удален, не сделавший увеселения, укрепивший ту же скорбь. Ксюша, страшась приказывать Шерефединову и не умея попросить убийцу родных, чтоб оставил ей перса, лишь завела пустынные глаза к разгромленному своду и так оставила до нового утра.
С тех пор как пленница начала изредка принимать яства, Шерефединов зачастил в ее темницу. Нередко он раздевал Ксюшу, – мерно урча, странствовал шероховатой ладонью по белым изгибам, притихшим движимым холмам, раздвигал ноги невольницы… Но каждый раз, вдруг заругавшись по-татарски с подсвистом, сдвигал снова ноги и одевал: берег, хотел отцу на Рамазан сделать хороший подарок.
Однородная вечность летела – только в чугунных узорах окна дольше стыл белый свет, меньше задерживалась тьма. Девка Сабурова, по вопросам хозяйства имевшая доступ на двор, приносила оттуда ненужные Ксении новости. Самозванец в Серпухове… Стали отстраивать боярские подклети, сметенные майским народом, встречавшим казаков Корелы и Гаврилы Пушкина… Царевич под Коломной, цены в Москве вновь вздымаются… Дмитрий уже под Москвой.
В день въезда самодержца в город Сабурова уговорила немца охранения взять ее на кремлевскую стену с собой – посмотреть с высоты окаянного Дмитрия-Гришку. Обратно, в Ксюшину темницу, влетела разгоряченная, захватанная немцами, стрельцами.
– Ой, не поспела, не видала ничего! Народу – луг! Красна-площадь – что цветной капусты поле! На Лобном месте твой, Аксиньюшка, дядька стоит – покойной мамы-то брат двоеродный Бельский. Людям кричит – мол, он царевича баюкал на груди, сейчас узнал его мхновенно – обману, значит, нет и наплюйте на того, кто вам брехал про беглого монаха…
– Монаха…
Ксения, качнувшись на русых неплетеных волнах, села на лавочке. Далекий образ инока, восторженно упавшего перед ее возком, снова ясно воскресил простое утро детства – словно свет хорошего беспечного лица скользнул вблизи… Ах память, странная, случайная, что ты морочишь сердце? Из сотен лиц ты выбираешь самые далекие, крылатые, легко и безвозвратно пропархавшие, и жить велишь надеждой и неверием во встречу. Вот скажи, как тот, кто без следа исчез в безветренные времена, может явиться в гости через семь затворов в страшную годину? Не чует он, что делается с Ксюшей, и не придет из-за семи своих святых лесов, размахивая, как мечом, крестом, вращая булавой кадило, освободить позабытую… Но нет, – Ксения жестко уперла в кулачки легонький подбородок, – когда царевны погибают, инокам же сообщается тоже о них, так что не может он не знать… хотя бы не подумать… И оружием его, моей защитой, конечно, станет лишь неловкая молитва – от отшельничьей землянки в монастырской роще, вблизи источника святой воды…
– Ой, святы-батюшки-угодники, чур меня, чур! – метнулась от окна Сабурова, – ой, с нами крестная сила! – по двору прокатился чудовищный топот и бранный лязг. Ксения, привстав на цыпочках, из-за накосника Сабуровой увидела только – один воин темничной стражи, сорвавшись с крыльца, протянулся на аспидных плитах, сверху на стражника плашмя упал его топор, и пока не было известно никому – насколько воин поврежден, он сам разумно замер и смотрел на мир из-под рифленой плоскости секиры.
В тот же короткий миг дверь в Ксюшину каморку распахнулась, тускло блеснув, парчовый занавес отдернулся, и перед Ксенией (Сабурова давно вползла под лавку) затрепетал так смело, явленно один из ее снов, что на какое-то время царевна поверила необъяснимой яви.
На пороге стоял тот самый, далекий, канувший из патриаршего причта, монах, Ксения разом узнала его: все то же безусое, хоть похудевшее лицо, пресветлые кудри, тот же прячется прыщик под носом. Все его платье полосато, серо от песка и пыли, надорвано в иных местах, на поясе кривой клинок – как же ты, монах Ослябя, прорубился? За дверью – всюду – тяжкие и спешные шаги.
– Слушай, беги! – крикнула Ксения, впивая радостного схимника-заступника глазами. – Беги, теперь мне немного осталось, некого переживать… Спеши, ведь тебя схватят: здесь близко ходит сейчас это чудо, Отрепьев… Я вспоминать теперь буду, как ты приходил, время побежит быстро.
Инок шагнул к ней, качнулся круглый, незнаемый лик у него на груди, на червленой цепи.
– Государь-батячка, я карашо кармил! – вдруг сбоку, из-за плеча инока выглянул Шерефединов. – Еще вчера, государь, говорила как умная!
– Кто… государь? – слетело то ли с губ, может, с ресниц невольницы.
– Ну да, – разулыбался избавитель. – Проси теперь, краса, что любишь, и люби как хошь, я – государь!
– Дмитрий Иванович, дурында, наклоняйся в ноги Дмитрию Ивановичу! – защебетали, засвистали отовсюду стайки голосов – смешливых, истовых, дрожащих.
– Неправда. Это все во сне, – сказала слабо царевна. – У меня сны такие, там хорошие вдруг превращаются в страшных…
И ловко закрыла руками глаза – на миг очнуться опять рядом со сказочным схимником, вошедшим и оттолкнувшим орду самозваных губителей царской земли.
Петр Басманов, принявший Стрелецкий приказ под начало, на время сделался также главой государева сыска. Отдыхая от стройных и величавых доносов, боярин все возвращался к одной думке-закорюке, необходимости установить: как это горстке донских казаков удалось с хода занять стольный, снабженный белой и красной стенами с задобренной сытой охраной, огромнейший город? И не сокрылось ли за показною лихостью казачьего налета что-либо из того, что теперь следует Басманову по должности подробно знать? А уж коли не было боярской каверзы здесь, смеха лицедейства, – и совсем хорошо: Петр Федорович, с радостью учения и дрожью ревности, изучит все тонкости славного штурма – оно ему надо, первому воеводе всех оружных сил Руси.
Басманов отправил рынд быстро выяснить – где на Москве стоят донцы, бить челом, звать с почтением в гости их атаманов.
Но рынды, быстро воротившись, доложили: кроме стоянки казаков из личной свиты Дмитрия, к смелым делам передового отряда Корелы не касательных, нет донцов-героев никаких. Басманов нерадивых рынд отдал под розги и, приказав ополоснуть водой, заново бросил на поиски.
Освеженные, будто прозревшие воины промчались по пещеркам-уличкам Китая, вертя конями, ерзая на седлах, морщась и рыча, допрашивая встречных-поперечных, просыпались сквозь путаное сито Белого города и заблудились в правильной немецкой слободе. Но понемногу рындам начало везти: в травянистых овражках, лиственных закоулках открывали пасущихся рысачков с коротко стриженной гривой, с подрезанным косо хвостом. Рядом с выгулом казацких лошадок чаще всего, притаенно или прямо, лубенел кабак, там рындам удавалось обнаружить по-за штофами надолго спешившегося, тяжкого наездника. В одном из кабаков конь находился прямо в помещении, – склонив чубарую занузданную голову под лавку, перебирал губами кудри неподвижного хозяина. Порой сурово всхрапывая, гремя подковами среди катающихся полом оловянных кубков, конь никого не подпускал к родному казаку, но, разглядев людей Басманова, опрятных и хлопотливых, рысак вдруг рыданул, закивал и даже преклонил передние колена – тем подсобляя рындам погрузить хмельного поперек седла. Казак уже не имел знаков малейшей жизни, влажные черные кудри нездешней повиликой оплели его помолодевшее и безнадежное – под платок застиранный – лицо.
– Игнатий, атаман готов! – сказал соратнику молодой рында, наудачу послушав через газыри черкески, пронизанной водочным духом, и не поймав теплого отзвука в тиши донца.
– Вези, брат, все одно к боярину, в приказ, – рассудил старший. А то опять урюта не поверит, под розги нас даст.
Для проворства дела закрепив кое-как атамана поперек на рысака, врасплох погнали к Басманову. Но по дороге то ли ветерком донца обдуло, а может быть, мерные толчки крупа друга-конька пустили ему сердце, но только вскоре атаман стал подымать косматую степную голову, потом весь распрямился, хрустнув яростно суставами, и, изловчившись, сел в седло – с натугой хрипнул голос:
– Которое время?
Петр Федорович радостно приветил атамана, большие полководцы обнялись.
– Присаживайся, Андрей Тихоныч, рассказывай – где пропадал, как брал с ребятами Москву великим дерзновением?
– Да ну, не помню, – сморщившись, махнул рукой Корела и присел на стулик посреди пустой, обмазанной по алебастру известью светлицы. Соленого арбуза нет, боярин? Ах, москали не припасают? Хоть огуречного рассольцу поднесешь?
Басманов распорядился насчет ублажения гостя и снова спокойно напомнил Кореле вопрос.
– Вот заладил, – оторвался Андрей от зеленой живительной мути в разбитой для него четверти. – Ты скажи лучше, где государь?
– Вообще-то, наперво здесь отвечают на мои вопросы, – между делом заметил Петр Федорович.