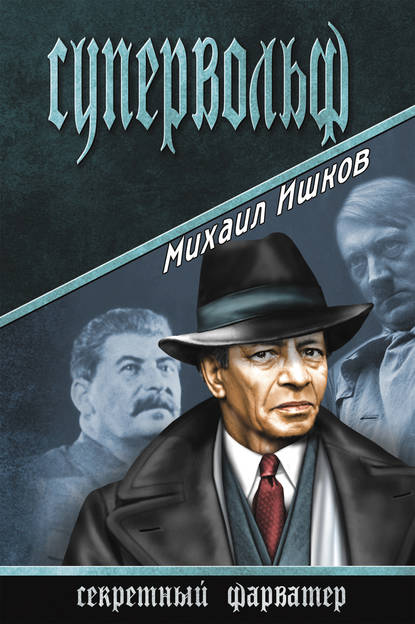По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Супервольф
Автор
Год написания книги
2015
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Все, господин директор. Например, лежать в гробу или отыскивать всякие спрятанные предметы.
– Отыскивать предметы нам не надо, у нас серьезное заведение. Публика сочтет такой фокус мошенничеством, а вот лежать в гробу…
Он задумался.
– Сколько?
– Что сколько?
– Как долго он может изображать умершего?
– Сколько угодно господину директору, – ответил мой импресарио.
– Я хочу, чтобы он ответил сам. Как долго ты можешь лежать в гробу? День, два, неделю.
В ту пору я был глуп в практических вопросах, и обуявшая меня неуместная гордыня толкнула на самый неразумный ответ в моей жизни. Вольф оказался склонен к похвальбе.
Я вытаращил глаза и заявил, что могу пролежать две недели.
– Это ты врешь, – рассудил директор паноптикума. – А вот неделя меня бы вполне устроила. Расчет за неделю.
Первым ловушку заметил импресарио.
– Господин директор шутит? – ласково спросил он. – Мальчику надо ходить в школу. Мальчик – уникум. Сам профессор Абель согласился заниматься с ним, на это тоже нужно время.
Сошлись на трех сутках – в пятницу вечером я должен был ложиться в гроб и лежать там до утра понедельника. Так что неделя у меня была свободна, и я, осознавший, что гордыня и глупая похвальба могут далеко завести человека, не пропускал занятий с профессором Абелем.
Скоро я оброс товарищами – познакомился с кобылой в человеческом облике, ее звали Бэлла; с разбитными сестричками Шари и Вари, с безруким инвалидом Гюнтером Шуббелем.
С Вилли мы тоже сошлись. Правда, наше общение трудно было назвать дружбой, но мы больше не пускали в ход кулаки, а порой даже вместе гуляли по городу. Вилли, каким бы гордецом он ни выставлял себя, все время пытался докопаться, каким образом я впадаю в смертельную спячку, почему не чувствую боли, как читаю чужие мысли и отыскиваю спрятанные предметы. Однажды он напросился со мной к профессору Абелю. Там, когда он попытался исполнить роль индуктора, я впервые проник в его тайные помыслы.
Его мечтой была власть над миром.
Точнее, он хотел завоевать мир и положить его к ногам кайзера, портреты которого в стальном шлеме с игрушечным набалдашником были развешаны по всему Берлину. Кажется, его звали Вильгельм, точно не помню.
У Вилли была собственная, дотошно продуманная программа, как добиться поставленной цели, в которой нашлось место и Мессингу. Мне отводилась роль индуктора, с помощью которого Вилли намеревался овладеть «тайным знанием» предков. От него первого я услышал легенду об Одине или Вотане, девять дней провисевшем на дереве и сумевшим проникнуть в тайну древних рун.
Это случилось в те времена, когда боги бродили по земле, покровительствовали героям, и каждый из героев, совершив подвиг, мог надеяться оказаться в Валгалле, куда их доставляли небесные девы – валькирии. В ту пору сила скапливалась не только в оружии, но и в таинственных знаках, называемых рунами. Тот, кто сумел проникнуть в их смысл, мог составить заклинание такой силы, которая сокрушила бы всякое зло и его порождения, неисчислимо выползавшие из подземного мира Хелль – от злобных великанов-ётунов до мертвецов, мерзких карликов и орков.
Однажды Вотан был ранен копьем и его, беззащитного, без воды и питья, на девять дней и ночей привязали к дереву Иггдрасиль. Ценою боли к Вотану пришло понимание рун, из которых он составил восемнадцать заклинаний, заключавших в себе тайну бессмертия, способность к врачеванию и самоизлечению, искусство побеждать врага в бою и власть над любовными страстями.
Вилли настаивал, чтобы я, укладываясь в гроб, прислушивался к голосам, доносившимся до меня из потустороннего мира. Во время трехсуточного сеанса меня взаправду кто-то окликал, скорее всего, это были голоса посетителей, но я поверил Вилли. Меня захватила игра образованных людей, ведь это было так увлекательно – поспособствовать раскрытию тайны древнего письма, о котором, со слов Гидо фон Листа и Хаусхофера, с неподражаемой убежденностью рассказывал Вилли. Он убеждал меня «отдаться голосу зовущего», тогда перед человечеством, точнее, перед «нордической расой» как его квинтэссенцией, откроется дорога к подлинной свободе, равенству, братству. Область, где осуществятся самые заветные мечты, он называл по-разному, но всякий раз непонятно – островами Блаженных, городом богов Асгардом, запретным Аваллоном, иногда Эдемом или райскими кущами. В ту пору Вилли еще не был склонен к презрению к «инородцам» и подчеркивал, что в кущах найдется место всякому, независимо от его «крови». Главное – готовность человека услыхать «зов предков», умение проникнуть в смысл древних заклинаний. Это было мне понятно, ведь, с одной стороны, образ мыслей Вилли отличался презрением к предрассудкам, навязанным прогрессом, с другой – его матерью была Мария Федоровна Толстоногова, урожденная дворянка из прибалтийских губерний, где она имела счастье познакомиться с цирковым дрессировщиком Августом Вайскруфтом. Какая причина толкнула госпожу Толстоногову выйти замуж за циркача, говорить не буду, Вилли старательно обходил эту тему.
Из-под небес могу добавить, что старший Вайскруфт родился в хорошей семье. В юности, поступив на военную службу, он был изгнан из армии за какой-то проступок. К мирной жизни вернулся, как и небезызвестный «мистер Х», без имени, без состояния, без родственных связей.
Идеи сына господин Вайскруфт считал откровенной блажью и не раз при мне заявлял, что не для того он «дал сыну образование», чтобы тот морочил себе голову «магией» и «чернокнижием» или «напялил» офицерский шлем и заодно промотал отцовское состояние. Он настоял, чтобы Вилли учился коммерции. Сын повиновался, однако закончить курс ему не удалось. Началась война, и в пятнадцатом году Вайскруфт-младший добровольцем ушел на фронт. Знание русского языка привело его на Восточный фронт, там он попал в плен. В Германию вернулся в восемнадцатом году, полный ненависти к большевикам, а также к тем, кто своим предательством довел родину до позорного поражения.
Но это случилось позже, а в ту пору противовесом сказкам Вайскруфта-младшего были весьма приземленные, порой циничные остроты безрукого Гюнтера Шуббеля. Он любил проехаться насчет господина Цельмейстера и «зажималы» Вайскруфта-старшего, которые любят сытно поесть за чужой счет. От него первого я услыхал о «классах» и «эксплуататорах», о «пролетариате» и «его миссии». Гюнтер был родом из Вединга. Это был самый бунтарский район Берлина, заселенный преимущественно самыми отчаянными пролетариями, как, например, район возле площади Бюлова, ныне площадь Розы Люксембург, и Мюнцштрассе и приютившей меня Драгунштрассе, считался еврейским кварталом. Здесь селились бежавшие с востока соотечественники, здесь они устроили добровольное гетто.
Нелепая или, если хотите, трагическая, случайность на заводе «Фанеренверке» закончилась для Гюнтера ампутацией обоих предплечий, и ему, мечтавшему о карьере художника, поневоле пришлось искать свой путь в жизни. Найти-то он нашел, только спокойствия ему это не прибавило. Зарабатывая в паноптикуме на кусок хлеба, он пытался понять, почему кусок так мал. Шуббель первый предостерег меня от свойственного беднякам пренебрежения к наукам, и за это я по сей день, даже пребывая на высоте четырнадцатого этажа, благодарен ему. Он свел меня с моим будущим и недолгим счастьем – со своей двоюродной сестрой Ханной, которая взяла надо мной опеку. Я благодарен ей за то, что с ее помощью научился читать и писать по-немецки, а также за то, что Ханна сделала меня мужчиной, причем не походя, а по взаимному чувству, память о котором до сих пор греет мне душу.
Я доверял Гюнтеру не только потому, что мы были схожи – он существовал без рук, я с бельмом в мозгу, – и трудности и невзгоды, которые ему пришлось претерпеть в жизни, были близки мне, но и потому, что разглядел в нем несгибаемое уважение к себе. Я очень ценю в людях это свойство, так как, только имея подобную опору, можно добиться чего-то большего в жизни, чем сытое пропитание. Гюнтеру было за что уважать себя, ведь он замечательно владел ногами. Не было числа фокусам, которые он выделывал нижними конечностями. Один из них спас мне жизнь, но об этом после…
Насчет картин ничего сказать не могу, мне всегда не хватало художественного вкуса, и единственные предметы, которые я с удовольствием коллекционировал, – это драгоценные камни, как, например, знаменитый перстень с громадным, чистейшей воды изумрудом, пропавший в день моей смерти. По совету Гюнтера я приучил себя внимательно следить за техническими новинками и научными открытиями, начал интересоваться политикой. Вскоре жизнь подтвердила важность подобного отношения к миру. Когда мне посчастливилось познакомиться с Альбертом Эйнштейном, я очень повеселил его заявлением, что одобряю попытку ученого доказать, что все вокруг относительно.
Эйнштейн недоуменно глянул на меня и признался:
– Я, вообще-то, имел в виду другое. Мир физических величин. Другими словами, если исчезнут «вещи», исчезнет также «пространство» и «время». Что касается «всего»… – он развел руками.
– Ну как же, профессор, – объяснил я. – Ответьте, три волоса – это много или мало?
Профессор задумался.
– Если на голове, то мало.
– А в тарелке с супом?
Эйнштейн засмеялся и на прощание предложил:
– Будет плохо – приходите ко мне…
Зигмунд Фрейд, всерьез занявшийся мной в 1915 году, научил меня искусству самовнушения и умению глубоко сосредотачиваться на каком-нибудь предмете. Это очень помогало, когда мне приходилось отыскивать пропавшие драгоценности и документы. Шестнадцатилетний мальчик, мог ли я не попасть под власть этого интересного, глубокого, я бы сказал, могучего человека?! Свою власть Фрейд употребил на благо мне. Более двух лет продолжалось наше близкое знакомство, которое я и сегодня вспоминаю с чувством благодарности. Он подтолкнул меня к изучению психологии, чем я активно занялся, поселившись в Вильно. Но это случилось уже после Первой мировой войны. В любом случае я знаю русский, польский, немецкий, древнееврейский… Читаю на этих языках и продолжаю пополнять свои знания, насколько позволяют мне мои силы.
К моему удивлению, не кто иной, как господин Цельмейстер, попытался грудью преградить мне дорогу к знаниям. Всеми доступными средствами он пытался отвадить меня от встреч с Ханной и вообще от всяких неподконтрольных ему встреч. Он подозревал каждого, с кем я дружил, в попытках отбить всецело принадлежавший ему «сладенький кусок», каким являлся Вольф Мессинг. Признаюсь, в ту пору я был молод и глуп, и до поры до времени Цельмейстер казался мне благодетелем, ведь за пребывание в хрустальном гробу я получал пять марок в день – это было неслыханное богатство. В двенадцатом году я отослал в Гуру Кальварию письмо, в котором сообщил, что мне удалось выбиться в люди (точнее, в «уроды», но об этом я предпочел не упоминать). К письму приложил несколько десятков марок.
Доставленный вскоре ответ и, более всего, короткая приписка в конце заставили меня задуматься о содеянном, начиная с побега из иешивы и кончая занятиями у профессора Абеля, который неоднократно повторял: «Развивайте ваши способности! Не давайте им заглохнуть и забыться! Тренируйтесь!»
Письмо повергло меня в такую меланхолию, какая и не снилась профессору Абелю. Я разглядывал строчки, они расплывались перед глазами. Как наяву передо мной предстала Гура, местный раввин, который под диктовку отца писал, что семья благодарит меня за помощь. Далее шли пожелания – не дерзи, чти «завет», соблюдай субботу, слушайся профессора и господина Цельмейстера, они, по всему видно, достойные люди. В конце короткая приписка: «Мать желает тебе маленького счастья».
Всю ночь я не мог заснуть. Из головы не выходили наш кормилец – цветущий сад с яблочной завязью; мама, вымаливающая у Господа Бога крохотное счастье для своего бедового сыночка.
На следующее утро мне надо было отправляться на службу в паноптикум, где меня ждал хрустальный гроб. Устроившись в гробу, я погрузился в летаргический сон и нацеленно отправился в иные пространства. Вновь попытался проникнуть туда, где не ступала нога человека, куда не проникал человеческий взгляд.
Я веду речь вовсе не о мистическом, нарочито бредовом, потустороннем эфире, которым пользуются шарлатаны, а о вполне реальном, пусть в то время и недоступном будущем, которое мне хотелось прочувствовать и понять. Очнувшись в понедельник, я внезапно осознал, что в видениях, относящихся к надвигающемуся грядущему, не было и намека на моих родных, на домик в Гуре Кальварии.
Будь я догадливее, я бросил бы все и помчался в Польшу. Я взял бы их всех, отправил куда подальше. К сожалению, в те годы мне не хватало ни знаний, ни опыта, ни кругозора. Ослепленный гордыней, я счел отсутствие очерченных предвидений свидетельством того, что наши пути окончательно разошлись. Более того, втайне я даже гордился, что стал медиумом и осознал себя в качестве спустившегося со звезд или из каких-нибудь иных неизвестных пространств существа. Грядущее настигло меня в Советской России. Мне было жестоко отмщено за слепоту и бесчувственность. Воспоминание о медитации, которую я испытал, получив письмо из дома, всю жизнь убивало меня. Этот урок я осознал в Берлине в 1921 году, и с той поры во время «психологических опытов» постоянно, порой успешно, порой нет, старался воплотить в реальность то, что открывалось мне в минуты ясновидения. Очень трудно согласовать себя «чужого» с собой «здешним», для этого требуется особое мастерство. Даже теперь, витая на уровне четырнадцатого этажа, я не могу похвалиться, что в полной мере справился с такого рода разладом. По сравнению с ним всякие иные противоборства, как-то – «классовая борьба», «зов крови», «голос предков», даже страдания Одина и заповеди Талмуда, представляются мне несущественными.
* * *
Все свободное время я проводил у профессора Абеля или в компании с Ханной. С этой строгой длиннющей девчонкой мы занимались немецким, а у профессора Абеля, в конце концов примирившегося и с женой и с потерей Лоры, я осваивал нечувствительность к боли, а также практику улавливания чужих мыслей. Эти чудеса настолько были мне в охотку, что даже свободное время я тоже посвящал тренировкам.
Чаще всего направлялся на ближайший рынок, шел между рядами и вслушивался в чужие мысли. До меня долетали – или доносились? – скорее, доносились, – отдельные, порой округлые, краткие, как вздохи, слова-судороги. Сначала я отчетливо улавливал лишь междометия. Существительные и глаголы, содержащие смысл, с трудом и очень редко давались мне. Скоро в голове начали проступать отдельные слова, что-то вроде лепета – дочка, корова, доить, справится? поросята, умная.
В первый раз, уловив такой протяженный ряд и осознав, что понимаю, о чем идет речь, мне нестерпимо захотелось, даже рискуя нарваться на грубый отпор, проверить отгадку.
Я подошел к прилавку и, проникновенно глядя в глаза женщине, успокоил ее.
– Не волнуйся… Дочка не забудет подоить коров и дать корм поросятам… Она хоть и маленькая, но крепкая и смышленая…
– Отыскивать предметы нам не надо, у нас серьезное заведение. Публика сочтет такой фокус мошенничеством, а вот лежать в гробу…
Он задумался.
– Сколько?
– Что сколько?
– Как долго он может изображать умершего?
– Сколько угодно господину директору, – ответил мой импресарио.
– Я хочу, чтобы он ответил сам. Как долго ты можешь лежать в гробу? День, два, неделю.
В ту пору я был глуп в практических вопросах, и обуявшая меня неуместная гордыня толкнула на самый неразумный ответ в моей жизни. Вольф оказался склонен к похвальбе.
Я вытаращил глаза и заявил, что могу пролежать две недели.
– Это ты врешь, – рассудил директор паноптикума. – А вот неделя меня бы вполне устроила. Расчет за неделю.
Первым ловушку заметил импресарио.
– Господин директор шутит? – ласково спросил он. – Мальчику надо ходить в школу. Мальчик – уникум. Сам профессор Абель согласился заниматься с ним, на это тоже нужно время.
Сошлись на трех сутках – в пятницу вечером я должен был ложиться в гроб и лежать там до утра понедельника. Так что неделя у меня была свободна, и я, осознавший, что гордыня и глупая похвальба могут далеко завести человека, не пропускал занятий с профессором Абелем.
Скоро я оброс товарищами – познакомился с кобылой в человеческом облике, ее звали Бэлла; с разбитными сестричками Шари и Вари, с безруким инвалидом Гюнтером Шуббелем.
С Вилли мы тоже сошлись. Правда, наше общение трудно было назвать дружбой, но мы больше не пускали в ход кулаки, а порой даже вместе гуляли по городу. Вилли, каким бы гордецом он ни выставлял себя, все время пытался докопаться, каким образом я впадаю в смертельную спячку, почему не чувствую боли, как читаю чужие мысли и отыскиваю спрятанные предметы. Однажды он напросился со мной к профессору Абелю. Там, когда он попытался исполнить роль индуктора, я впервые проник в его тайные помыслы.
Его мечтой была власть над миром.
Точнее, он хотел завоевать мир и положить его к ногам кайзера, портреты которого в стальном шлеме с игрушечным набалдашником были развешаны по всему Берлину. Кажется, его звали Вильгельм, точно не помню.
У Вилли была собственная, дотошно продуманная программа, как добиться поставленной цели, в которой нашлось место и Мессингу. Мне отводилась роль индуктора, с помощью которого Вилли намеревался овладеть «тайным знанием» предков. От него первого я услышал легенду об Одине или Вотане, девять дней провисевшем на дереве и сумевшим проникнуть в тайну древних рун.
Это случилось в те времена, когда боги бродили по земле, покровительствовали героям, и каждый из героев, совершив подвиг, мог надеяться оказаться в Валгалле, куда их доставляли небесные девы – валькирии. В ту пору сила скапливалась не только в оружии, но и в таинственных знаках, называемых рунами. Тот, кто сумел проникнуть в их смысл, мог составить заклинание такой силы, которая сокрушила бы всякое зло и его порождения, неисчислимо выползавшие из подземного мира Хелль – от злобных великанов-ётунов до мертвецов, мерзких карликов и орков.
Однажды Вотан был ранен копьем и его, беззащитного, без воды и питья, на девять дней и ночей привязали к дереву Иггдрасиль. Ценою боли к Вотану пришло понимание рун, из которых он составил восемнадцать заклинаний, заключавших в себе тайну бессмертия, способность к врачеванию и самоизлечению, искусство побеждать врага в бою и власть над любовными страстями.
Вилли настаивал, чтобы я, укладываясь в гроб, прислушивался к голосам, доносившимся до меня из потустороннего мира. Во время трехсуточного сеанса меня взаправду кто-то окликал, скорее всего, это были голоса посетителей, но я поверил Вилли. Меня захватила игра образованных людей, ведь это было так увлекательно – поспособствовать раскрытию тайны древнего письма, о котором, со слов Гидо фон Листа и Хаусхофера, с неподражаемой убежденностью рассказывал Вилли. Он убеждал меня «отдаться голосу зовущего», тогда перед человечеством, точнее, перед «нордической расой» как его квинтэссенцией, откроется дорога к подлинной свободе, равенству, братству. Область, где осуществятся самые заветные мечты, он называл по-разному, но всякий раз непонятно – островами Блаженных, городом богов Асгардом, запретным Аваллоном, иногда Эдемом или райскими кущами. В ту пору Вилли еще не был склонен к презрению к «инородцам» и подчеркивал, что в кущах найдется место всякому, независимо от его «крови». Главное – готовность человека услыхать «зов предков», умение проникнуть в смысл древних заклинаний. Это было мне понятно, ведь, с одной стороны, образ мыслей Вилли отличался презрением к предрассудкам, навязанным прогрессом, с другой – его матерью была Мария Федоровна Толстоногова, урожденная дворянка из прибалтийских губерний, где она имела счастье познакомиться с цирковым дрессировщиком Августом Вайскруфтом. Какая причина толкнула госпожу Толстоногову выйти замуж за циркача, говорить не буду, Вилли старательно обходил эту тему.
Из-под небес могу добавить, что старший Вайскруфт родился в хорошей семье. В юности, поступив на военную службу, он был изгнан из армии за какой-то проступок. К мирной жизни вернулся, как и небезызвестный «мистер Х», без имени, без состояния, без родственных связей.
Идеи сына господин Вайскруфт считал откровенной блажью и не раз при мне заявлял, что не для того он «дал сыну образование», чтобы тот морочил себе голову «магией» и «чернокнижием» или «напялил» офицерский шлем и заодно промотал отцовское состояние. Он настоял, чтобы Вилли учился коммерции. Сын повиновался, однако закончить курс ему не удалось. Началась война, и в пятнадцатом году Вайскруфт-младший добровольцем ушел на фронт. Знание русского языка привело его на Восточный фронт, там он попал в плен. В Германию вернулся в восемнадцатом году, полный ненависти к большевикам, а также к тем, кто своим предательством довел родину до позорного поражения.
Но это случилось позже, а в ту пору противовесом сказкам Вайскруфта-младшего были весьма приземленные, порой циничные остроты безрукого Гюнтера Шуббеля. Он любил проехаться насчет господина Цельмейстера и «зажималы» Вайскруфта-старшего, которые любят сытно поесть за чужой счет. От него первого я услыхал о «классах» и «эксплуататорах», о «пролетариате» и «его миссии». Гюнтер был родом из Вединга. Это был самый бунтарский район Берлина, заселенный преимущественно самыми отчаянными пролетариями, как, например, район возле площади Бюлова, ныне площадь Розы Люксембург, и Мюнцштрассе и приютившей меня Драгунштрассе, считался еврейским кварталом. Здесь селились бежавшие с востока соотечественники, здесь они устроили добровольное гетто.
Нелепая или, если хотите, трагическая, случайность на заводе «Фанеренверке» закончилась для Гюнтера ампутацией обоих предплечий, и ему, мечтавшему о карьере художника, поневоле пришлось искать свой путь в жизни. Найти-то он нашел, только спокойствия ему это не прибавило. Зарабатывая в паноптикуме на кусок хлеба, он пытался понять, почему кусок так мал. Шуббель первый предостерег меня от свойственного беднякам пренебрежения к наукам, и за это я по сей день, даже пребывая на высоте четырнадцатого этажа, благодарен ему. Он свел меня с моим будущим и недолгим счастьем – со своей двоюродной сестрой Ханной, которая взяла надо мной опеку. Я благодарен ей за то, что с ее помощью научился читать и писать по-немецки, а также за то, что Ханна сделала меня мужчиной, причем не походя, а по взаимному чувству, память о котором до сих пор греет мне душу.
Я доверял Гюнтеру не только потому, что мы были схожи – он существовал без рук, я с бельмом в мозгу, – и трудности и невзгоды, которые ему пришлось претерпеть в жизни, были близки мне, но и потому, что разглядел в нем несгибаемое уважение к себе. Я очень ценю в людях это свойство, так как, только имея подобную опору, можно добиться чего-то большего в жизни, чем сытое пропитание. Гюнтеру было за что уважать себя, ведь он замечательно владел ногами. Не было числа фокусам, которые он выделывал нижними конечностями. Один из них спас мне жизнь, но об этом после…
Насчет картин ничего сказать не могу, мне всегда не хватало художественного вкуса, и единственные предметы, которые я с удовольствием коллекционировал, – это драгоценные камни, как, например, знаменитый перстень с громадным, чистейшей воды изумрудом, пропавший в день моей смерти. По совету Гюнтера я приучил себя внимательно следить за техническими новинками и научными открытиями, начал интересоваться политикой. Вскоре жизнь подтвердила важность подобного отношения к миру. Когда мне посчастливилось познакомиться с Альбертом Эйнштейном, я очень повеселил его заявлением, что одобряю попытку ученого доказать, что все вокруг относительно.
Эйнштейн недоуменно глянул на меня и признался:
– Я, вообще-то, имел в виду другое. Мир физических величин. Другими словами, если исчезнут «вещи», исчезнет также «пространство» и «время». Что касается «всего»… – он развел руками.
– Ну как же, профессор, – объяснил я. – Ответьте, три волоса – это много или мало?
Профессор задумался.
– Если на голове, то мало.
– А в тарелке с супом?
Эйнштейн засмеялся и на прощание предложил:
– Будет плохо – приходите ко мне…
Зигмунд Фрейд, всерьез занявшийся мной в 1915 году, научил меня искусству самовнушения и умению глубоко сосредотачиваться на каком-нибудь предмете. Это очень помогало, когда мне приходилось отыскивать пропавшие драгоценности и документы. Шестнадцатилетний мальчик, мог ли я не попасть под власть этого интересного, глубокого, я бы сказал, могучего человека?! Свою власть Фрейд употребил на благо мне. Более двух лет продолжалось наше близкое знакомство, которое я и сегодня вспоминаю с чувством благодарности. Он подтолкнул меня к изучению психологии, чем я активно занялся, поселившись в Вильно. Но это случилось уже после Первой мировой войны. В любом случае я знаю русский, польский, немецкий, древнееврейский… Читаю на этих языках и продолжаю пополнять свои знания, насколько позволяют мне мои силы.
К моему удивлению, не кто иной, как господин Цельмейстер, попытался грудью преградить мне дорогу к знаниям. Всеми доступными средствами он пытался отвадить меня от встреч с Ханной и вообще от всяких неподконтрольных ему встреч. Он подозревал каждого, с кем я дружил, в попытках отбить всецело принадлежавший ему «сладенький кусок», каким являлся Вольф Мессинг. Признаюсь, в ту пору я был молод и глуп, и до поры до времени Цельмейстер казался мне благодетелем, ведь за пребывание в хрустальном гробу я получал пять марок в день – это было неслыханное богатство. В двенадцатом году я отослал в Гуру Кальварию письмо, в котором сообщил, что мне удалось выбиться в люди (точнее, в «уроды», но об этом я предпочел не упоминать). К письму приложил несколько десятков марок.
Доставленный вскоре ответ и, более всего, короткая приписка в конце заставили меня задуматься о содеянном, начиная с побега из иешивы и кончая занятиями у профессора Абеля, который неоднократно повторял: «Развивайте ваши способности! Не давайте им заглохнуть и забыться! Тренируйтесь!»
Письмо повергло меня в такую меланхолию, какая и не снилась профессору Абелю. Я разглядывал строчки, они расплывались перед глазами. Как наяву передо мной предстала Гура, местный раввин, который под диктовку отца писал, что семья благодарит меня за помощь. Далее шли пожелания – не дерзи, чти «завет», соблюдай субботу, слушайся профессора и господина Цельмейстера, они, по всему видно, достойные люди. В конце короткая приписка: «Мать желает тебе маленького счастья».
Всю ночь я не мог заснуть. Из головы не выходили наш кормилец – цветущий сад с яблочной завязью; мама, вымаливающая у Господа Бога крохотное счастье для своего бедового сыночка.
На следующее утро мне надо было отправляться на службу в паноптикум, где меня ждал хрустальный гроб. Устроившись в гробу, я погрузился в летаргический сон и нацеленно отправился в иные пространства. Вновь попытался проникнуть туда, где не ступала нога человека, куда не проникал человеческий взгляд.
Я веду речь вовсе не о мистическом, нарочито бредовом, потустороннем эфире, которым пользуются шарлатаны, а о вполне реальном, пусть в то время и недоступном будущем, которое мне хотелось прочувствовать и понять. Очнувшись в понедельник, я внезапно осознал, что в видениях, относящихся к надвигающемуся грядущему, не было и намека на моих родных, на домик в Гуре Кальварии.
Будь я догадливее, я бросил бы все и помчался в Польшу. Я взял бы их всех, отправил куда подальше. К сожалению, в те годы мне не хватало ни знаний, ни опыта, ни кругозора. Ослепленный гордыней, я счел отсутствие очерченных предвидений свидетельством того, что наши пути окончательно разошлись. Более того, втайне я даже гордился, что стал медиумом и осознал себя в качестве спустившегося со звезд или из каких-нибудь иных неизвестных пространств существа. Грядущее настигло меня в Советской России. Мне было жестоко отмщено за слепоту и бесчувственность. Воспоминание о медитации, которую я испытал, получив письмо из дома, всю жизнь убивало меня. Этот урок я осознал в Берлине в 1921 году, и с той поры во время «психологических опытов» постоянно, порой успешно, порой нет, старался воплотить в реальность то, что открывалось мне в минуты ясновидения. Очень трудно согласовать себя «чужого» с собой «здешним», для этого требуется особое мастерство. Даже теперь, витая на уровне четырнадцатого этажа, я не могу похвалиться, что в полной мере справился с такого рода разладом. По сравнению с ним всякие иные противоборства, как-то – «классовая борьба», «зов крови», «голос предков», даже страдания Одина и заповеди Талмуда, представляются мне несущественными.
* * *
Все свободное время я проводил у профессора Абеля или в компании с Ханной. С этой строгой длиннющей девчонкой мы занимались немецким, а у профессора Абеля, в конце концов примирившегося и с женой и с потерей Лоры, я осваивал нечувствительность к боли, а также практику улавливания чужих мыслей. Эти чудеса настолько были мне в охотку, что даже свободное время я тоже посвящал тренировкам.
Чаще всего направлялся на ближайший рынок, шел между рядами и вслушивался в чужие мысли. До меня долетали – или доносились? – скорее, доносились, – отдельные, порой округлые, краткие, как вздохи, слова-судороги. Сначала я отчетливо улавливал лишь междометия. Существительные и глаголы, содержащие смысл, с трудом и очень редко давались мне. Скоро в голове начали проступать отдельные слова, что-то вроде лепета – дочка, корова, доить, справится? поросята, умная.
В первый раз, уловив такой протяженный ряд и осознав, что понимаю, о чем идет речь, мне нестерпимо захотелось, даже рискуя нарваться на грубый отпор, проверить отгадку.
Я подошел к прилавку и, проникновенно глядя в глаза женщине, успокоил ее.
– Не волнуйся… Дочка не забудет подоить коров и дать корм поросятам… Она хоть и маленькая, но крепкая и смышленая…