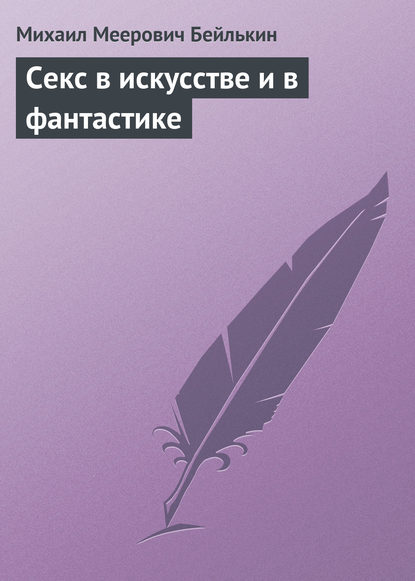По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Секс в искусстве и в фантастике
Автор
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Чувства неистового Людовика к Алексею схожи с теми, что выразил в своих стихах Шарль Бодлер:
Я люблю тем сильней, что как дым ускользая,
И дразня меня странной своей немотой,
Разверзаешь ты пропасть меж небом и мной.
Уступив своей страсти, он вновь скатился с горы в пропасть. По-крайней мере, так это виделось воину Христа. Он тщетно пытается разорвать порочные узы, закрывающие перед ним врата вожделенного Иерусалима. Потому-то мечется Людовик, ища других партнёров, способных вытеснить из его души преступное влечение к Алексею. Это хорошо понимал его любовник, такой юный и такой взрослый: «ибо только к моему телу вожделел, он жаждал любви, но не способен был меня полюбить, ненасытное вожделение было его единственным настоящим чувством, знаю, не раз, обнимая меня и говоря, что любит, он думал: пустое всё это, я не могу его любить, но и жить без него не могу, а я, когда насытившись мной, он внезапно оставлял меня одного, думал: я – его собственность, его вещь, поэтому ему проще презирать меня, чем себя, я ненавижу его, но и себя ненавижу, так как покорно соглашаюсь на всё, чего б он ни захотел, мне это приятно, а поскольку приятно, я не могу от этого отказаться, за что и ненавижу себя, я знал, что кроме меня ему нужны были другие тела, он их искал и находил, но потом снова возвращался ко мне, а я, хотя знал, что он придёт, ещё согретый теплом другого тела, его ждал…».
Достигнув шестнадцати лет, Алексей и сам попытался однажды разорвать их связь. Он сделал это из отчаяния, зная, что его любовник прячется в пастушеском шалаше Жака, прозванного Прекрасным. Отчаявшегося юношу встретила Бланш, девушка, влюблённая в подростка-пастушка и только что отвергнутая им; «…она спросила: можешь сделать так, чтобы я перестала думать о нём? я сказал: раздевайся, и она разделась, я стоял над ней…».
Надо признать, что, настраиваясь на секс с женщиной, Алексей прибег к психологической уловке: «я тоже, сбросив с себя одежду, стоял над ней и думал: вот перед тобой лежит Жак, поспеши, ибо через минуту Жак перестанет быть Жаком, она лежала обнажённая на моём плаще, я впервые ступил босыми ногами на этот плащ, впервые потому, что до сих пор он служил не мне, а моему ожиданью, я ступил на свой пурпурный плащ и сказал: он тебя прогнал?, сказал так, потому что не нашёл других слов, а не потому, что лежащая передо мной незнакомая обнажённая девушка пробудила во мне желание, единственно от тоски, от неутолённой жажды и одиночества я это сказал и ещё раз, вовсе об этом не думая, повторил: он тебя прогнал?, тогда она попросила: сделай так, чтобы я больше не думала о нём, и тут я внезапно почувствовал, что моя мужская сила – моя мужская сила, и я лёг на незнакомую девушку, и когда потом пробудился от глубочайшего сна, и грудь моя горела в огне, а руки обнимали чужое тело, вот тогда, открыв глаза, затуманенные тяжёлым сном, я увидел его: он стоял над нами, слившимися в любовном объятии, но гнева не было на его тёмном лице, его глаза, такие светлые, что казались нагими, теперь были наги больше обычного, он бил нас тем кожаным арапником, который выронил второпях, когда я затрубил в рог, а он поспешно спрятался от меня у Жака в шалаше, он нас бил, она, как и я пробудившись от тяжёлого сна, попыталась найти защиту от первых ударов во мне, поскольку я был ближе всего, но потом, увидев его, увидев, что мы наги, а он одет и бьёт нас арапником, стремительно выскользнула из моих объятий и, крича, будто её резали, убежала, я продолжал лежать на своём плаще, он стоял надо мной и без устали меня бил, я лежал, принимая сильные, до крови рассекающие кожу удары, внезапно он перестал меня бить и, стоя надо мной, замер, я спросил: почему ты меня бьёшь? потому, что я переспал с этой шлюхой, или потому, что, спрятавшись от меня у Жака в шалаше, ты вынужден был меня обмануть?, тогда он отбросил арапник, опустился рядом со мной на колени и, желая убежать от меня, а также, наверное, и от себя, заключил меня в свои объятья, я знал, что он обнимает меня в последний раз, и, когда он делал со мной, то, что привык делать всегда, закрыл глаза, чтобы он не видел моих слёз…».
Исповедь Алексея продолжалась; слышались шаги двух с лишним тысяч детских ног; беззвучно колыхались в темноте хоругви и чёрные кресты; где-то в хвосте колонны скрипели телеги, на которых везли выбившихся из сил участников похода. Старый человек, который три дня исповедовал детей, очищая их от всяческих грехов и проступков,«был большим и грузным мужчиной в бурой рясе монаха-минорита, он шёл впереди, шёл медленно, поступью очень усталого человека, неуклюже припечатывая землю тяжёлыми отёкшими ступнями, старый человек думал: если юность не спасёт этот мир от гибели, ничто больше не сумеет его спасти, потому-то все надежды и чаянья я возложил на этих детей…». Ни фанатиком, ни честолюбцем старик не был; он ничем не походил на Петра Пустынника и других проповедников, идейных вдохновителей крестовых походов. Религиозный экстаз, порождённый юным пастушком Жаком, застал его врасплох. Он слышал правду и ложь из уст тех, кто боготворил Жака и любил его. Став в голове шествия, исповедуя детей и подростков, монах мучительно размышлял, можно ли надеяться на чудо, и если нет, то сможет ли он предотвратить их гибель?
Алексей, примкнув к участникам похода, стал его движущей силой. Он заколол своего бесценного андалузского жеребца, чтобы накормить изголодавшихся детей; он заставляет их исповедоваться монаху (в том числе свою любовницу Бланш: «убью, как собаку, если не исповедуешься и не получишь прощенья, лги, но будь такая, как все»); он облачил Жака в свой знаменитый пурпурный плащ, подарок графа, который из символа надежд юного грека превратился в любовное ложе его отчаянья, на котором Бланш отдавалась ему, на котором он в последний раз сам отдавался Людовику.
Что направляло стальную волю Алексея? Что стало причиной религиозного озарения Жака? – эти вопросы мучили старого исповедника.
Роковая ночь, когда Людовик наткнулся на костёр, разведенный пастухом, оказалась поворотным пунктом в судьбах множества людей. Исповедуясь, Жак рассказывает: «я стоял, наклонившись к огню, и тут он появился передо мной на великолепном вороном жеребце, появился нежданно-негаданно, я не знал кто он такой, судя по облику и одежде, то был рыцарь благороднейшего рождения, ты знаешь дорогу в Шартр?, Шартр там, – сказал я и показал рукой, – там, где полуночная звезда, если без промедления отправитесь в путь, к утру попадёте в Шартр, ночь была очень светлая, так что полная луна уже восходила над лугами внизу, я подумал, что сейчас он уедет, взмолился в мыслях, чтобы этого не случилось, и сказал: если не хотите ехать в темноте, в Клуа можно найти удобный ночлег, я предпочёл бы воспользоваться твоим гостеприимством, – сказал он в ответ, а у меня сильно забилось сердце, шутите, господин, мой шалаш убог, ты его не любишь?, – о нет!, – воскликнул я, – я очень его люблю, тогда он улыбнулся, и его светлые глаза показались мне ещё светлее, значит, твои чувства превращают его во дворец, – сказал он, – подумай, что толку от великолепия, если оно вызывает презрение или неприязнь? Богатство в таком случае утрачивает свой блеск, красота – привлекательность, а мощь – силу, только любовь способна какую угодно вещь, даже наискромнейшую, сделать прекрасной…».
Так граф Людовик попал в шалаш Жака. Их свиданию дважды помешали. Вначале послышался охотничий рог Алексея. Граф приказал Жаку привлечь юношу обычным пастушеским кличем и сказать ему, что всадник, которого он ищет, ускакал в Шартр. Тот так и поступил, впервые в своей жизни солгав, но Алексей не поверил ему: «он всё ещё не сводил с меня своих тёмных угрюмых глаз, ты уверен, что тот рыцарь уехал?, – не веришь?, верю, – сказал он, обогнув меня, подъехал к шалашу, с чего бы мне не верить, – сказал он громче, чем говорил до сих пор, – у Людовика Вандомского, графа Шартрского и Блуаского, нет причин скрываться от своего питомца и наследника, после чего внезапно нагнулся до самой земли и, подняв ременный арапник, лежавший на траве у входа в шалаш, подъехал, держа в руке этот арапник, ко мне, ты прав, – сказал он, мой господин, должно быть, в самом деле спешил, иначе бы заметил потерю, с минуту мы молча смотрели друг другу в глаз, до тех пор мне неведомо было чувство ненависти, но в ту минуту я его ненавидел, до свидания, Жак, – сказал он, – мы ещё встретимся, и, хлестнув арапником своего жеребца, поскакал вниз по склону…».
Второй помехой стала Бланш, убежавшая с деревенской свадьбы к Жаку: « …кого ты ищешь? – спросил я, тебя, – ответила она,– поцелуй меня, я промолчал, и она подошла ближе, уходи, – сказал я, боишься? – засмеялась она, – если у тебя ещё никогда не было девушки, я тебя научу, увидишь: возьмёшь меня один раз, и тебе захочется делать это со мной каждую ночь, уходи – повторил я, она стояла так близко, что я видел, как она побледнела и глаза её потемнели и сузились, кто у тебя в шалаше? – спросила она, никого, – ответил я, врёшь, – и хотела меня ударить, но я помешал ей, схватив за запястье, она рванулась: пусти, – и, когда я разжал пальцы, сказала, быстро дыша: ты ещё будешь на коленях умолять меня, чтобы я тебе отдалась, мне не пришлось в третий раз повторять: уходи, потому что, резко повернувшись, она побежала вниз, к лугам…».
Жак вернулся в шалаш и лёг на подстилку рядом с графом, спросившим: «это была твоя девушка?, у меня нет девушки, – ответил я, – почему? – спросил он, не знаю, – ответил я, – наверное потому, что я никого не люблю, зато тебя любят, – сказал он» . И тут возникла ситуация, почти повторяющая историю двухлетней давности, только на этот раз Людовик уже не сокрушался из-за греховности своего любовного выбора. Как когда-то Алексей, пастушок в трансе слушал любовные признания. Слово в слово Жак повторял их потом в исповеди: «ты молод, красив, а взгляд твоих глаз сразу, едва я увидел тебя, сказал мне, что душа твоя тоже прекрасна и чиста, чувства меня не обманывают, я тебя вижу, касаюсь рукой твоего плеча, трогательно вздрагивающего от моего прикосновения, ты живёшь, двигаешься, существуешь, а если кажешься сотворённым из иной нежели все прочие люди, материи, то потому, наверно, что природа благодаря божественному вдохновению, которым она наделена, единожды только способна из обычных элементов создать столь совершенное существо, после чего, поскольку я молчал, мягко повернул меня к себе и спросил: тебе ещё никто не говорил, что ты прекрасен?, я ответил: так как вы, господин, никто, и сказал правду, потому что не знал своего лица, и, хотя слышал, что в деревне меня всё чаще называют не как прежде, Жаком Найдёнышем, а Жаком Прекрасным, никто до сих пор так, как он, об этом не говорил, он сказал: может быть тебе это неприятно?, нет, что вы, господин, говорите, мне вовсе не неприятно, – ответил я, потому что так оно в самом деле и было…». Как когда-то Алексей, Жак грезил в гипнотическом трансе. Ему виделись мощные ворота и громадные стены Иерусалима, ведь в эти минуты Людовик, говорил ему, как некогда Алексею, о том, что ему самому никогда уже не осуществить благородную и святую задачу освобождения Гроба Господня, ибо: «не с обагрёнными невинною кровью мечами и затаёнными в сердце и в мыслях тёмными и неистовыми страстями, а лишь в броне невинности и с чистым сердцем под этою бронёю можно достичь ворот Иерусалима, которые должны распахнуться перед теми, кто душою близок покоящемуся в одинокой могиле Христу, тогда, восемь лет назад, на исходе той, самой тягостной в моей жизни ночи, я понял, что противу бездушной слепоты рыцарей, герцогов и королей, только христианские дети в своём милосердии могут спасти город Иерусалим …».
Как когда-то Алексею, Жаку впору было сказать: «можете делать со мной, всё, что хотите, господин». Утром он понял, что рядом никого нет: «…я лежал на своей подстилке и чувствовал себя более одиноким, чем когда-либо прежде, хотя я всегда просыпался в своём шалаше один, я подумал: всё это мне приснилось, и, подумав так, даже пожелал, чтобы это был только сон, но едва пожелал, в ту же минуту меня обуял страх, я сел на подстилке и вдруг увидел на своей руке этот драгоценный перстень, должно быть, уходя, он надел мне его на палец, когда я спал, поняв всё, я преклонил колена и возблагодарил всемогущего Бога, что это не было сном…».
А потом угрызения совести стали мучить и самого пока ещё безгрешного Жака. Узнав от Алексея, что граф Людовик утонул в Луаре, разбушевавшейся в весеннем полноводии, « …я спросил: ты был с ним?, да, – ответил он, – весенние реки коварны, и не смог спасти?, не смог, – сказал он, – это произошло очень быстро, так камень идёт на дно, он говорил, а я думал: будь я с ним, я сумел бы его спасти…». «Я обязан был пойти с ним и спасти его, но остался в шалаше и теперь ничто не возместит мне эту утрату!» – терзался угрызениями совести пастух, забывая, что Людовик сам не позвал его с собой. Зато потом это сделал сверстник и соперник Жака, ставший Алексеем Вандомским, графом Шартрским и Блуаским, ещё совсем недавно желавший лишь одного: «чтобы он (Людовик) был рядом и своим телом защитил меня от одиночества, потерянности и страха, делай со мной всё, что хочешь, что б ты ни сделал, мне будет приятно». Теперь он сам предлагал Жаку: «если ты пойдёшь со мной и при мне останешься, я сделаю всё, что ты пожелаешь, буду служить тебе и тебя защищать, буду для тебя всем, чем ты разрешишь мне быть, потому что люблю тебя с первой минуты, с тех пор, как увидел тебя, склонившегося над догоравшим костром, люблю, хотя и не знаю, рождена ли моя любовь только тобой и мной, только нами двумя, или её пробудил из небытия тот, кого уже больше нет, и тут Жак сказал: уходи, ты не пойдёшь со мной? – спросил я, нет, – сказал он, я вышел, сел на коня и, во второй уже раз, поскакал вперёд, к влажным пастбищам, лежащим внизу, но если тогда, в ту первую ночь, меня переполняли любовь и ревность, то теперь я чувствовал только отчаянье в сердце да пронзительный холод в пальцах и на губах, потом я остановился на краю луга возле того самого дерева, под которым он бил меня, лежащего на земле своим арапником, а потом в последний раз обнимал, девка та появилась неожиданно, подошла ко мне и сказала: этот страшный человек опять будет нас бить?, раздевайся, – ответил я, – его уже нет, он лежит в тяжёлом гробу и единственное, что может делать, – поспешно гнить, потом, лёжа подо мной, обнажённая, она спросила: он тебя прогнал?, я взял её, ничего не сказав, она смеялась и стонала, я входил в неё, как в широко разлившиеся, жёлтые и вспененные воды Луары, но перед моими открытыми глазами стояло лицо Жака, я растягивал медленно нараставшее наслаждение, чтобы подольше не исчезал этот образ, она смеялась и стонала, вдруг я услышал под собой, но как бы из дальней дали донёсшийся её короткий вскрик, прозвучавший как стон настигаемого смертью зверя, и, услыхав этот короткий вскрик, почувствовал себя властелином и повелителем этого тела, мною преобразованного в покорность и стон …». Его вопрос: – «ты пойдёшь со мной?» – был теперь обращён к Бланш, согласной на всё, на графскую опочивальню, лес или пустыню.
Казалось бы, Алексей мог теперь стать новым человеком, освободиться от мазохистской зависимости от графа, от гомосексуальности (навязанной ему, как это кажется читателям, в ночь резни). Увы, ещё в шалаше Жака он понял:«ты, придавленный тяжёлыми могильными плитами, я не думаю о тебе, но от тебя не освободился».
Близким к полному преображению счёл себя перед своей смертью и сам Людовик. Влюблённый в Жака, он впал в эйфорию и наговорил Алексею много наивных, глуповато-напыщенных, убийственных для них обоих слов, повторённых юношей на исповеди: «обогащённый чувством, дотоле ему неведомым, чувством пленительным и новым, чувством, которое из пучины сомнений и горя выносит его на простор безудержной радости…». Алексей, жизнь которого сразу лишалась смысла, с горечью рассказывал монаху: «только одно я понял: в его жизни мне нет больше места, я должен вернуться в город, из которого он вынес меня на руках, когда мой родной дом пылал, а руки и губы были окроплены кровью моих родителей, которую он пролил, он говорил, это я помню и никогда не забуду: сейчас всё сошлось на том, чтобы нам расстаться и чтоб моя жизнь перестала быть твоей жизнью, а твоя моей, я спросил: когда мне уйти?, он сказал: ты получишь всё, что причитается человеку, который должен был стать моим наследником, когда мне уйти? – спросил я снова…».
Если бы даже граф остался живым, он вскоре убедился бы, что и любовь Жака не может изменить ни его сути, ни судьбы. Все трое, Людовик, Алексей и Жак, несвободны в своём поведении; сами того не зная, они запрограммированы и обречены на гибель.
Свобода выбора и «запрограммированность» в сексе и жизни
Проще всего проследить механизмы программирования на Алексее. Подобно Гумберту из романа «Лолита», он – продукт импринтинга. Трагическая ночь резни навсегда запечатлелась в памяти Алексея. Мало того, пережитое оказалось спаянным с его сексуальностью. Страх смерти, крики умирающих, бряцание оружия и появление «юного, сияющего» Людовика на фоне зловещего зарева – всё это неразрывно слилось вместе на всю жизнь, «и я сразу полюбил его, помню короткие вспышки его меча, потом, помню, на мои стиснутые у горла руки брызнули струйки, то была кровь моих родителей».
В отличие от животных, импринтинг связан у человека, как правило, не только с пережитыми им сверхсильными эмоциями, но и с особым складом его нервной системы, обусловленным заболеваниями мозга, асфиксией (удушьем), травмами, в том числе родовыми. С Алексеем нечто подобное случилось в младенчестве. Об этом рассказал ему его воспитатель, разыскав юного грека во Франции: «ты тяжело заболел и бредил в беспамятстве, лекари, все до одного, сомневались, можно ли тебя спасти, я же днём и ночью бодрствовал подле тебя, и, когда на третью ночь, не приходя в чувство, ты стал умирать, окостенел, а стопы твои и кисти рук, несмотря на жар, сделались холодными, как лёд, я взял тебя на руки и сказал: ты должен жить, ты должен услышать, что я говорю тебе: ты должен жить, не помню, сколько раз повторял я эти слова, может быть, десять, а может быть, сто, зато помню, что в конце концов ты открыл глаза и посмотрел на меня, держащего тебя на руках, ясным взглядом… ».
Как бы то ни было, сексуальность Алексея была прочно спаянна с чувством полного подчинения сильной личности, мужчине, способному принести своему избраннику боль и унижение, но могущему также дать ему чувство безопасности, утолить тревогу, спасти от одиночества. Любовник был рыцарем зла, поскольку его появление сопровождалось смертью близких и крушением мира, привычного мальчику. Задолго до того, как они стали близки физически, он вполне постиг мятущуюся душу Людовика. Так не мог понять себя и сам крестоносец. Ведь увидев в детстве реальное воплощение религиозного фанатизма, Алексей раз и навсегда понял ложность идеи освобождения Гроба Господня. Сама она была ересью: согласно евангельскому мифу, Христос был положен в пещере завёрнутым в саван. Из склепа он исчез на третий день пасхи, воскреснув и вознесшись на Небо. Кому, как не крестоносцам, около ста лет правившим Иерусалимом, не знать о том, что гроба Господня и в природе-то никогда не было. Воспринимая лишь тёмную ипостась Людовика и понимая ложность всего, во что тот верил, Алексей, отрицал и само существование Бога, о чём сам недвусмысленно признался монаху на исповеди.
Итак, импринтинг сделал юного грека садомазохистом и гомосексуалом. Его любовь к Людовику ни для кого не была тайной; Алексей ни за какие блага не желал бы отказаться от неё. В этом убедился воспитатель, спасший его когда-то от неминуемой смерти: «в егоголосе была печаль: значит, ты любишь человека, руки которого обагрены кровью твоих родителей, я повторил, не поднимая глаз: не хочу тебя больше видеть, и если ты ещё раз появишься на моём пути, я убью тебя или прикажу убить, хорошо, сказал он, помолчав, – я уйду, и ты меня больше не увидишь, но прежде чем уйти одно хочу тебе сказать: я проклинаю, Алексей Мелиссен, ту минуту, когда тебе, умирающему, крикнул: ты должен жить…».
Когда, повстречав Жака, Людовик прогнал Алексея, всё для него пошло прахом; с горечью он подумал: «Жака, о котором он ничего не знал, он смог полюбить, меня же, о котором он знал всё, полюбить не смог, хотя и говорил вначале, что любит, а теперь, так и не полюбив, думает, что может жить без меня…». Но ещё до того мгновенья,«как его сжатый кулак в последний раз мелькнул среди жёлтых и вспененных вод Луары», Алексей попытался сам освободиться от своей зависимости. Увы, осуществить это намерение было не под силу даже ему, с его сильной волей, физической неутомимостью и способностью ясно мыслить, ему, не остановившемуся перед убийством. Ведь смерть любовника лежит на его совести: «я мог спасти его, я знаю, что мог его спасти, среди своих ровесников я плаваю лучше всех и мог его спасти, потому что жёлтые, стремительно несущиеся вперёд волны не в одну секунду его поглотили, он тонул неподалёку от берега и долго противился смерти, прежде чем исчез, наконец, в пучине жёлтых вспененных вод, конечно он не хотел умирать, а когда почувствовал, что теряет силы и идёт на дно, конечно же в заливаемых водой глазах у него стоял образ Жака, и с этим видением он шёл на дно, в холод и шум смертоносных вод, я мог его спасти, но не двинулся с места, я думал: теперь я буду свободен, так пусть же это свершится, ведь если его не станет, я буду свободен, я буду избавлен от власти его тела и вожделения плоти, однако, когда это произошло и передо мной были уже только разлившиеся, жёлтые и вспененные воды Луары, я не почувствовал облегчения, сожаления, правда, я тоже не чувствовал, внутри меня всё оледенело, холод закрался в сердце, холодом сковало пальцы и губы…».
Этот холод уже однажды в детстве сковывал Алексея, но отступил, а сейчас, хотя юноша и стремился всеми силами выжить, его возвращение означало близость смерти, сначала душевной, а потом и физической.
Освобождаясь от заложенной в него программы, он пытается вытеснить любовника из своей души, из собственной жизни, из жизни окружающих, заменив покойного самим собой; именно этим объясняется внезапно вспыхнувшее чувство к Жаку, которое Алексей называет любовью. Но не любовь движет им; к тому же влечение, которое он испытывает к Бланш, трудно назвать гетеросексуальным: на её месте он представляет себе Жака, «хрупкого невысокого юношу в полотняной тунике с открытыми ноги и шеей, светло-каштановыми волосами, отливающими золотом и ресницами, такими длинными, что их тень падала на его щёки» . Слыша стоны и крики Бланш, порождённые женским переживанием оргазма, он мысленно приписывает их Жаку, представляя себя его любовником, повелителем и господином. И хоть сам он не отдаёт себе в этом отчёта, не любовь, а ненависть питает Алексей к избраннику Людовика. Он легко погубил бы Жака, если бы тот пошёл с ним в графский дворец. Его отказ лишь отдалял время смерти пастушка и умножал её цену: он вынуждал Алексея отказаться от владения графством и предопределил неотвратимость его собственной гибели. Примкнув к шествию детей и понимая его обречённость, Алексей делает всё, чтобы даже ценой собственной жизни привести к смерти Жака. Именно такой исход предстал в провидческом видении исповедника: ему привиделись двое детей, один со светлой, а другой с тёмной шевелюрой, бредущих по безжизненной пустыне. Светлый был слеп. Черноволосый остался лежать на песке, он послал своего спутника к якобы виднеющимся вратам Иерусалима, которых на самом деле не было и в помине. Вместо них впереди была смерть.
Так воля покойного Людовика, слившаяся с волей Алексея, стала вдвойне смертоносной.
При жизни крестоносец, полагая, что любит окружающих, приносил им лишь гибель. Между тем, он не вызывает ненависти ни у своего окружения, ни у читателей. Он – убийца и насильник; но его страстное стремление к недостижимому идеалу и нравственные муки, порождённые сознанием собственной порочности, глубоко трогают окружающих. Жак, например, с первого же взгляда на незнакомого рыцаря понял, что тот много страдает.
Как ни странно, здесь можно обнаружить сходство «Врат рая» с «Солярисом», как с романом, так и с фильмом. Но очевидна и пропасть между ними: если, по Тарковскому, процесс преодоления человеческих слабостей и садомазохизма, лежит в основе прогресса человечества в целом, хотя и не приносит победы и счастья каждому в отдельности, то, по Анджеевскому, невозможно и это. Благородная в глазах средневековых христиан, но в действительности ложная цель – освобождение Гроба Господня, породила реки крови и горы трупов, разорение городов, гибель культурных ценностей.
Крестовые походы детей не были исключением. В 1212 году они стихийно и практически одновременно возникли во Франции (его вдохновителем был 12-летний пастушок Этьен из деревни Клуа, прототип Жака) и в Германии (во главе с 10-летним Никласом). Оба мальчика, объявив себя избранниками Бога, собрали многотысячные толпы последователей (Этьен, например, вёл за собой более 30 тысяч). Разумеется, дети шли в сопровождении взрослых – фанатиков, мошенников, бродяг, убийц. По дороге они грабили и убивали беззащитных людей, начав со своих соотечественников-евреев. Многие паломники сами были убиты крестьянами и горожанами, охранявшими своё добро; многие умерли от голода и болезней. Средиземное море должно было расступиться, пропустив шествие к Иерусалиму, но, вопреки обещаниям идейных вдохновителей похода, этого не произошло. Дети были обмануты работорговцами, владельцами кораблей; их заманили на суда и продали на арабских невольничьих рынках. (Сведения об этом можно найти, в частности, в книге Михаила Заборова «Крестоносцы на Востоке»).
«Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой» для современного читателя приобрели особый смысл. На ум приходят идеи более близкие нам, гораздо более справедливые и честные, чем завоевание Гроба Господня. Такова в нашей отечественной истории социальная подоплёка Октябрьской революции с последовавшим за ней ужасным террором, творимом всеми участниками конфликта. Кто усомнится в благородстве помыслов бескорыстного польского рыцаря Феликса Дзержинского, не щадившего себя ради торжества социальной справедливости и отправившего на тот свет сотни тысяч людей?! Герои гражданской войны, рыцари революции, поэты и правдолюбцы, жертвовавшие собой ради светлой идеи, становились убийцами.
Похоже, прогресс человечества связан с чередой целей, которые поначалу представляются святыми; реализуясь, они вызывают всплеск варварства и гибель множества людей, а, став достоянием истории, оказываются порой весьма сомнительными или попросту ложными. Переломные моменты в развитии общества принимают характер социальных катаклизмов и сопровождаются эпидемиями садизма. История человечества полна примерами высочайшего благородства и неслыханной жестокости, вызванной к жизни как алчностью, властолюбием и садизмом, так и самыми справедливыми и светлыми идеями.
Средневековый армянский поэт Наапет Кучак написал однажды стихи, которые я приведу в подстрочном переводе (очень уж многое теряется в известных мне стихотворных переложениях этого айрена):
Господи, в каждый час и в каждую минуту
спаси меня от людского зла.
Людское зло – это так страшно,
что и зверь от него бежит.
Лев, царь зверей,
закован в цепи,
орёл, страшась человека,
парит в поднебесье.
Люди, а не животные изобрели мучительную смерть от усаживания на кол, от сдирания кожи с живого человека, от зашивания во вспоротый живот жертвы голодных крыс… Этот список можно продолжать бесконечно. Увы, с развитием возможностей человечества возрастают масштабы его злодеяний. Войны становятся кровопролитнее, множатся людские потери. Вооружённый террорист безмерно рад тому, что способен отправить в небытие сотни и даже тысячи незнакомых ему людей, не сделавших ему ничего дурного. Не задумываясь, жертвует он своей жизнью, убивая как можно больше неверных… А их программисты-вдохновители предпочитают посылать на подвиги во имя Аллаха женщин и девушек, казалось бы, самой природой созданных для милосердия и любви.
Благородный мечтатель Людовик (кстати, реальный персонаж истории, участник четвёртого крестового похода) превратил безгрешного Жака в фигуру более губительную, чем Крысолов, который увёл в никуда детей из Гамельна. Этот символ вдвойне выразителен: пастух, увлекающий доверившихся ему людей на гибель.
Жак – тоже жертва садомазохизма, хотя его чувства так похожи на настоящую любовь. Как же отличить любовь от бесчисленных подделок под неё, о которых предупреждает в своей максиме французский мыслитель Ларошфуко?
Формула любви
Все любят и боготворят Жака (или, по крайней мере, думают, что любят его), по-разному объясняя своё чувство. Мод, девушка из Клуа, первая поверившая в богоизбранность пастушка, говорит на исповеди: «я люблю его улыбку, которая не улыбка даже, а как бы робкое её обещание, его улыбка открывает передо мной Царство Небесное, всем собой он открывает Царство Небесное, я всегда могла молиться ему, как небесам, я верю, что Жак приведёт нас в Иерусалим». В день мессианского прозрения она увидела его таким: «он был бледен той чистой и вдохновенной бледностью, которая кажется отражением особого внутреннего света, побледневший, он сходил с холма, который возвышался над пастбищем на краю леса, потом она увидела его среди пастухов, онемевших от изумления, столь странным было появление его среди них, тогда он впервые сказал: Господь всемогущий возвестил мне противу бездушной слепоты рыцарей…». Поэтическая природа Жака, позднее породившая его религиозный экстаз, и его особая одухотворённая красота сделали его избранником графа; пастух рассказывает: « …мы лежали рядом на моей жёсткой подстилке, помню, он говорил: когда я ехал один в лесу, мне было чертовски грустно, мир казался мне огромной скуделью нужды и страданий, человек – заблудшей тварью, жизнь – лишённой надежд, но едва я увидел тебя, стоящего у костра, тотчас же мрак, объемлющий мир, сделался не таким беспросветным, участь человека – не столь безнадёжной, жизнь – ещё не растерявшей остатки тепла, подумай, какими богатствами ты владеешь, если одним своим существованием способен воскрешать надежду, я чувствовал, как под незакрытыми веками у меня закипают слёзы, мне было хорошо, как ещё никогда в жизни, ты не знаешь меня, господин, сказал я». В ответ Людовик разразился собственным объяснением природы любви, чем-то перекликающимся с «Пиром» Платона и, по-видимому, в чём-то близком самому Анджеевскому: «если человек только непостижимая тайна, другому человеку трудно его полюбить, но если в нём нет ничего потаённого, полюбить его невозможно, ибо любовь – поиск и узнавание, влечение и неуверенность, торопливость и ожидание, всегда ожидание, даже если ждать невмоготу, любовь это особое и неповторимое состояние, когда желания и страсти жаждут удовлетворения, но не хотят переступать той последней черты, за которым оно будет полным, ибо любовь, по природе своей будучи неистовой потребностью удовлетворения желаний, с удовлетворением себя не отождествляет, любовь не удовлетворение и не способна им стать, зная тебя, я б не мог устремить к тебе свои желанья, так как для них только неведомое вместилище пригодно, однако, если б я ничего о тебе не знал и ни о чём не мог догадаться, я бы тоже отпрянул от тебя, словно от предательского ущелья в горах или стремительного речного водоворота, любовь – зов и поиск, она хочет подчинить себе всё, но всякое удовлетворение желаний её убивает, она вечно томима жаждой, но всякое удовлетворение желаний умерщвляет её, любовь – отчаянье средь несовместимых стихий, но вместе с тем и надежда, неугасимая надежда средь несовместимых стихий…».
Людовик во многом прав, но за его рассуждениями скрывается невротический страх перед любовью, страх садомазохиста, неспособного любить и боящегося очередного крушения надежд. Его поэтический панегирик Жаку можно перевести на язык нейрофизиологии и эволюционной биологии; правда, прежде всего, он должен быть дополнен определением главных атрибутов любви.
Эта тема обсуждается практически во всех моих книгах («Об интимном вслух»; «Глазами сексолога. (Философия, мистика и «техника секса»)»; «На исповеди у сексолога»; «Секреты интимной жизни. Знание. Здоровье. Мастерство»; «Тайны и странности «голубого» мира»).
Предки человека относились к полигамным животным; в их стае на одного самца приходится несколько самок. Самцы таких видов отличаются агрессивностью и половым поисковым поведением – стремлением вступать в половые связи со всеми самками стаи. Подобное поведение вызывается мужскими половыми гормонами, андрогенами. Если кастрировать взрослого самца, то, сохраняя способность к спариванию, он теряет половой поисковый инстинкт и агрессивность, становясь мирным и спокойным животным. Именно с этой целью человек холостит (кастрирует) жеребцов и быков, превращая их в рабочую скотину – меринов и волов. В естественных условиях животные-гипогениталы обречены на гибель, и, понятно, не способны иметь потомков.
Чтобы выжить самому и оставить после себя потомство, самцы должны быть агрессивными и похотливыми. Доминирующий (главенствующий) самец терроризирует тех самцов, что слабее его, не давая им спариваться с самками. Очевидно, что такое поведение носит приспособительный характер. Ведь агрессивность и половой поисковый инстинкт позволяют наиболее приспособленному самцу оставить после себя более многочисленное потомство, а это определяет качество популяции и, отчасти, влияет на её численность. (Количество животных в большей мере контролируется самками, ведь именно от их числа зависит численность потомства). Если в ходе мутации самец приобретает какое-то ценное преимущество перед другими самцами, то, став более приспособленным к условиям существования, он с помощью полового поискового поведения и агрессивности способен стать прародителем нового вида.
Наши далёкие предки, судя по их найденным окаменевшим останкам, насчитывающим почтенный возраст в 8 миллионов лет, обладали чертами, общими для человека и для нынешних обезьян. Речь идёт и о строении их челюстей, и черепа, и об особенностях строения их скелета в целом. (Об этом можно прочитать, например, в книгах Дональда Джохансона и Мейтленда Иди «Люси. Истоки рода человеческого» и Натана Эйдельмана «Ищу предка»).
Именно в то далёкое время и произошло первое в истории разделение приматов. Часть из них осталась в лесах, продолжая жить на деревьях. Они стали предками нынешних обезьян. Часть же популяции высших приматов (это точнее, чем называть их просто обезьянами) оказалась вне привычных для них условий обитания, не в тропическом лесу, а в африканской саванне, в поймах рек и на берегах озёр (Ян Линдблад «Человек – ты, я и первозданный»). Приматы (от латинского слова, означающего «первые») – название высших млекопитающих, объединяющее человека и человекообразных обезьян.
Скелеты и черепа приматов, обитавших в саванне спустя ещё четыре миллиона лет, свидетельствуют о том, что наши предки научились к этому времени ходить на двух ногах, пользоваться камнями и крупными костями животных при добыче пищи и при защите от хищников. Они не были ещё людьми. Учёные присвоили им имя австралопитеков («южные обезьяны»). Разумеется, прямохождение и прочие приспособительные механизмы были приобретены нашими предками в результате случайных мутаций и естественного отбора, а не в ходе их работы над собой во исполнение их собственных прогрессивных замыслов.
Шли тысячелетия. Естественный отбор продолжал отбраковывать виды животных, рвущихся в люди. Этих видов было много. Останки приматов находят не только в Африке, за пределы которой они к тому времени вышли, но и в нынешних Европе и Азии. Это были виды, представлявшие собой уже не обезьян, а обезьянолюдей (именно так переводится на русский язык термин «питекантроп» – «обезьяночеловек»).
Я люблю тем сильней, что как дым ускользая,
И дразня меня странной своей немотой,
Разверзаешь ты пропасть меж небом и мной.
Уступив своей страсти, он вновь скатился с горы в пропасть. По-крайней мере, так это виделось воину Христа. Он тщетно пытается разорвать порочные узы, закрывающие перед ним врата вожделенного Иерусалима. Потому-то мечется Людовик, ища других партнёров, способных вытеснить из его души преступное влечение к Алексею. Это хорошо понимал его любовник, такой юный и такой взрослый: «ибо только к моему телу вожделел, он жаждал любви, но не способен был меня полюбить, ненасытное вожделение было его единственным настоящим чувством, знаю, не раз, обнимая меня и говоря, что любит, он думал: пустое всё это, я не могу его любить, но и жить без него не могу, а я, когда насытившись мной, он внезапно оставлял меня одного, думал: я – его собственность, его вещь, поэтому ему проще презирать меня, чем себя, я ненавижу его, но и себя ненавижу, так как покорно соглашаюсь на всё, чего б он ни захотел, мне это приятно, а поскольку приятно, я не могу от этого отказаться, за что и ненавижу себя, я знал, что кроме меня ему нужны были другие тела, он их искал и находил, но потом снова возвращался ко мне, а я, хотя знал, что он придёт, ещё согретый теплом другого тела, его ждал…».
Достигнув шестнадцати лет, Алексей и сам попытался однажды разорвать их связь. Он сделал это из отчаяния, зная, что его любовник прячется в пастушеском шалаше Жака, прозванного Прекрасным. Отчаявшегося юношу встретила Бланш, девушка, влюблённая в подростка-пастушка и только что отвергнутая им; «…она спросила: можешь сделать так, чтобы я перестала думать о нём? я сказал: раздевайся, и она разделась, я стоял над ней…».
Надо признать, что, настраиваясь на секс с женщиной, Алексей прибег к психологической уловке: «я тоже, сбросив с себя одежду, стоял над ней и думал: вот перед тобой лежит Жак, поспеши, ибо через минуту Жак перестанет быть Жаком, она лежала обнажённая на моём плаще, я впервые ступил босыми ногами на этот плащ, впервые потому, что до сих пор он служил не мне, а моему ожиданью, я ступил на свой пурпурный плащ и сказал: он тебя прогнал?, сказал так, потому что не нашёл других слов, а не потому, что лежащая передо мной незнакомая обнажённая девушка пробудила во мне желание, единственно от тоски, от неутолённой жажды и одиночества я это сказал и ещё раз, вовсе об этом не думая, повторил: он тебя прогнал?, тогда она попросила: сделай так, чтобы я больше не думала о нём, и тут я внезапно почувствовал, что моя мужская сила – моя мужская сила, и я лёг на незнакомую девушку, и когда потом пробудился от глубочайшего сна, и грудь моя горела в огне, а руки обнимали чужое тело, вот тогда, открыв глаза, затуманенные тяжёлым сном, я увидел его: он стоял над нами, слившимися в любовном объятии, но гнева не было на его тёмном лице, его глаза, такие светлые, что казались нагими, теперь были наги больше обычного, он бил нас тем кожаным арапником, который выронил второпях, когда я затрубил в рог, а он поспешно спрятался от меня у Жака в шалаше, он нас бил, она, как и я пробудившись от тяжёлого сна, попыталась найти защиту от первых ударов во мне, поскольку я был ближе всего, но потом, увидев его, увидев, что мы наги, а он одет и бьёт нас арапником, стремительно выскользнула из моих объятий и, крича, будто её резали, убежала, я продолжал лежать на своём плаще, он стоял надо мной и без устали меня бил, я лежал, принимая сильные, до крови рассекающие кожу удары, внезапно он перестал меня бить и, стоя надо мной, замер, я спросил: почему ты меня бьёшь? потому, что я переспал с этой шлюхой, или потому, что, спрятавшись от меня у Жака в шалаше, ты вынужден был меня обмануть?, тогда он отбросил арапник, опустился рядом со мной на колени и, желая убежать от меня, а также, наверное, и от себя, заключил меня в свои объятья, я знал, что он обнимает меня в последний раз, и, когда он делал со мной, то, что привык делать всегда, закрыл глаза, чтобы он не видел моих слёз…».
Исповедь Алексея продолжалась; слышались шаги двух с лишним тысяч детских ног; беззвучно колыхались в темноте хоругви и чёрные кресты; где-то в хвосте колонны скрипели телеги, на которых везли выбившихся из сил участников похода. Старый человек, который три дня исповедовал детей, очищая их от всяческих грехов и проступков,«был большим и грузным мужчиной в бурой рясе монаха-минорита, он шёл впереди, шёл медленно, поступью очень усталого человека, неуклюже припечатывая землю тяжёлыми отёкшими ступнями, старый человек думал: если юность не спасёт этот мир от гибели, ничто больше не сумеет его спасти, потому-то все надежды и чаянья я возложил на этих детей…». Ни фанатиком, ни честолюбцем старик не был; он ничем не походил на Петра Пустынника и других проповедников, идейных вдохновителей крестовых походов. Религиозный экстаз, порождённый юным пастушком Жаком, застал его врасплох. Он слышал правду и ложь из уст тех, кто боготворил Жака и любил его. Став в голове шествия, исповедуя детей и подростков, монах мучительно размышлял, можно ли надеяться на чудо, и если нет, то сможет ли он предотвратить их гибель?
Алексей, примкнув к участникам похода, стал его движущей силой. Он заколол своего бесценного андалузского жеребца, чтобы накормить изголодавшихся детей; он заставляет их исповедоваться монаху (в том числе свою любовницу Бланш: «убью, как собаку, если не исповедуешься и не получишь прощенья, лги, но будь такая, как все»); он облачил Жака в свой знаменитый пурпурный плащ, подарок графа, который из символа надежд юного грека превратился в любовное ложе его отчаянья, на котором Бланш отдавалась ему, на котором он в последний раз сам отдавался Людовику.
Что направляло стальную волю Алексея? Что стало причиной религиозного озарения Жака? – эти вопросы мучили старого исповедника.
Роковая ночь, когда Людовик наткнулся на костёр, разведенный пастухом, оказалась поворотным пунктом в судьбах множества людей. Исповедуясь, Жак рассказывает: «я стоял, наклонившись к огню, и тут он появился передо мной на великолепном вороном жеребце, появился нежданно-негаданно, я не знал кто он такой, судя по облику и одежде, то был рыцарь благороднейшего рождения, ты знаешь дорогу в Шартр?, Шартр там, – сказал я и показал рукой, – там, где полуночная звезда, если без промедления отправитесь в путь, к утру попадёте в Шартр, ночь была очень светлая, так что полная луна уже восходила над лугами внизу, я подумал, что сейчас он уедет, взмолился в мыслях, чтобы этого не случилось, и сказал: если не хотите ехать в темноте, в Клуа можно найти удобный ночлег, я предпочёл бы воспользоваться твоим гостеприимством, – сказал он в ответ, а у меня сильно забилось сердце, шутите, господин, мой шалаш убог, ты его не любишь?, – о нет!, – воскликнул я, – я очень его люблю, тогда он улыбнулся, и его светлые глаза показались мне ещё светлее, значит, твои чувства превращают его во дворец, – сказал он, – подумай, что толку от великолепия, если оно вызывает презрение или неприязнь? Богатство в таком случае утрачивает свой блеск, красота – привлекательность, а мощь – силу, только любовь способна какую угодно вещь, даже наискромнейшую, сделать прекрасной…».
Так граф Людовик попал в шалаш Жака. Их свиданию дважды помешали. Вначале послышался охотничий рог Алексея. Граф приказал Жаку привлечь юношу обычным пастушеским кличем и сказать ему, что всадник, которого он ищет, ускакал в Шартр. Тот так и поступил, впервые в своей жизни солгав, но Алексей не поверил ему: «он всё ещё не сводил с меня своих тёмных угрюмых глаз, ты уверен, что тот рыцарь уехал?, – не веришь?, верю, – сказал он, обогнув меня, подъехал к шалашу, с чего бы мне не верить, – сказал он громче, чем говорил до сих пор, – у Людовика Вандомского, графа Шартрского и Блуаского, нет причин скрываться от своего питомца и наследника, после чего внезапно нагнулся до самой земли и, подняв ременный арапник, лежавший на траве у входа в шалаш, подъехал, держа в руке этот арапник, ко мне, ты прав, – сказал он, мой господин, должно быть, в самом деле спешил, иначе бы заметил потерю, с минуту мы молча смотрели друг другу в глаз, до тех пор мне неведомо было чувство ненависти, но в ту минуту я его ненавидел, до свидания, Жак, – сказал он, – мы ещё встретимся, и, хлестнув арапником своего жеребца, поскакал вниз по склону…».
Второй помехой стала Бланш, убежавшая с деревенской свадьбы к Жаку: « …кого ты ищешь? – спросил я, тебя, – ответила она,– поцелуй меня, я промолчал, и она подошла ближе, уходи, – сказал я, боишься? – засмеялась она, – если у тебя ещё никогда не было девушки, я тебя научу, увидишь: возьмёшь меня один раз, и тебе захочется делать это со мной каждую ночь, уходи – повторил я, она стояла так близко, что я видел, как она побледнела и глаза её потемнели и сузились, кто у тебя в шалаше? – спросила она, никого, – ответил я, врёшь, – и хотела меня ударить, но я помешал ей, схватив за запястье, она рванулась: пусти, – и, когда я разжал пальцы, сказала, быстро дыша: ты ещё будешь на коленях умолять меня, чтобы я тебе отдалась, мне не пришлось в третий раз повторять: уходи, потому что, резко повернувшись, она побежала вниз, к лугам…».
Жак вернулся в шалаш и лёг на подстилку рядом с графом, спросившим: «это была твоя девушка?, у меня нет девушки, – ответил я, – почему? – спросил он, не знаю, – ответил я, – наверное потому, что я никого не люблю, зато тебя любят, – сказал он» . И тут возникла ситуация, почти повторяющая историю двухлетней давности, только на этот раз Людовик уже не сокрушался из-за греховности своего любовного выбора. Как когда-то Алексей, пастушок в трансе слушал любовные признания. Слово в слово Жак повторял их потом в исповеди: «ты молод, красив, а взгляд твоих глаз сразу, едва я увидел тебя, сказал мне, что душа твоя тоже прекрасна и чиста, чувства меня не обманывают, я тебя вижу, касаюсь рукой твоего плеча, трогательно вздрагивающего от моего прикосновения, ты живёшь, двигаешься, существуешь, а если кажешься сотворённым из иной нежели все прочие люди, материи, то потому, наверно, что природа благодаря божественному вдохновению, которым она наделена, единожды только способна из обычных элементов создать столь совершенное существо, после чего, поскольку я молчал, мягко повернул меня к себе и спросил: тебе ещё никто не говорил, что ты прекрасен?, я ответил: так как вы, господин, никто, и сказал правду, потому что не знал своего лица, и, хотя слышал, что в деревне меня всё чаще называют не как прежде, Жаком Найдёнышем, а Жаком Прекрасным, никто до сих пор так, как он, об этом не говорил, он сказал: может быть тебе это неприятно?, нет, что вы, господин, говорите, мне вовсе не неприятно, – ответил я, потому что так оно в самом деле и было…». Как когда-то Алексей, Жак грезил в гипнотическом трансе. Ему виделись мощные ворота и громадные стены Иерусалима, ведь в эти минуты Людовик, говорил ему, как некогда Алексею, о том, что ему самому никогда уже не осуществить благородную и святую задачу освобождения Гроба Господня, ибо: «не с обагрёнными невинною кровью мечами и затаёнными в сердце и в мыслях тёмными и неистовыми страстями, а лишь в броне невинности и с чистым сердцем под этою бронёю можно достичь ворот Иерусалима, которые должны распахнуться перед теми, кто душою близок покоящемуся в одинокой могиле Христу, тогда, восемь лет назад, на исходе той, самой тягостной в моей жизни ночи, я понял, что противу бездушной слепоты рыцарей, герцогов и королей, только христианские дети в своём милосердии могут спасти город Иерусалим …».
Как когда-то Алексею, Жаку впору было сказать: «можете делать со мной, всё, что хотите, господин». Утром он понял, что рядом никого нет: «…я лежал на своей подстилке и чувствовал себя более одиноким, чем когда-либо прежде, хотя я всегда просыпался в своём шалаше один, я подумал: всё это мне приснилось, и, подумав так, даже пожелал, чтобы это был только сон, но едва пожелал, в ту же минуту меня обуял страх, я сел на подстилке и вдруг увидел на своей руке этот драгоценный перстень, должно быть, уходя, он надел мне его на палец, когда я спал, поняв всё, я преклонил колена и возблагодарил всемогущего Бога, что это не было сном…».
А потом угрызения совести стали мучить и самого пока ещё безгрешного Жака. Узнав от Алексея, что граф Людовик утонул в Луаре, разбушевавшейся в весеннем полноводии, « …я спросил: ты был с ним?, да, – ответил он, – весенние реки коварны, и не смог спасти?, не смог, – сказал он, – это произошло очень быстро, так камень идёт на дно, он говорил, а я думал: будь я с ним, я сумел бы его спасти…». «Я обязан был пойти с ним и спасти его, но остался в шалаше и теперь ничто не возместит мне эту утрату!» – терзался угрызениями совести пастух, забывая, что Людовик сам не позвал его с собой. Зато потом это сделал сверстник и соперник Жака, ставший Алексеем Вандомским, графом Шартрским и Блуаским, ещё совсем недавно желавший лишь одного: «чтобы он (Людовик) был рядом и своим телом защитил меня от одиночества, потерянности и страха, делай со мной всё, что хочешь, что б ты ни сделал, мне будет приятно». Теперь он сам предлагал Жаку: «если ты пойдёшь со мной и при мне останешься, я сделаю всё, что ты пожелаешь, буду служить тебе и тебя защищать, буду для тебя всем, чем ты разрешишь мне быть, потому что люблю тебя с первой минуты, с тех пор, как увидел тебя, склонившегося над догоравшим костром, люблю, хотя и не знаю, рождена ли моя любовь только тобой и мной, только нами двумя, или её пробудил из небытия тот, кого уже больше нет, и тут Жак сказал: уходи, ты не пойдёшь со мной? – спросил я, нет, – сказал он, я вышел, сел на коня и, во второй уже раз, поскакал вперёд, к влажным пастбищам, лежащим внизу, но если тогда, в ту первую ночь, меня переполняли любовь и ревность, то теперь я чувствовал только отчаянье в сердце да пронзительный холод в пальцах и на губах, потом я остановился на краю луга возле того самого дерева, под которым он бил меня, лежащего на земле своим арапником, а потом в последний раз обнимал, девка та появилась неожиданно, подошла ко мне и сказала: этот страшный человек опять будет нас бить?, раздевайся, – ответил я, – его уже нет, он лежит в тяжёлом гробу и единственное, что может делать, – поспешно гнить, потом, лёжа подо мной, обнажённая, она спросила: он тебя прогнал?, я взял её, ничего не сказав, она смеялась и стонала, я входил в неё, как в широко разлившиеся, жёлтые и вспененные воды Луары, но перед моими открытыми глазами стояло лицо Жака, я растягивал медленно нараставшее наслаждение, чтобы подольше не исчезал этот образ, она смеялась и стонала, вдруг я услышал под собой, но как бы из дальней дали донёсшийся её короткий вскрик, прозвучавший как стон настигаемого смертью зверя, и, услыхав этот короткий вскрик, почувствовал себя властелином и повелителем этого тела, мною преобразованного в покорность и стон …». Его вопрос: – «ты пойдёшь со мной?» – был теперь обращён к Бланш, согласной на всё, на графскую опочивальню, лес или пустыню.
Казалось бы, Алексей мог теперь стать новым человеком, освободиться от мазохистской зависимости от графа, от гомосексуальности (навязанной ему, как это кажется читателям, в ночь резни). Увы, ещё в шалаше Жака он понял:«ты, придавленный тяжёлыми могильными плитами, я не думаю о тебе, но от тебя не освободился».
Близким к полному преображению счёл себя перед своей смертью и сам Людовик. Влюблённый в Жака, он впал в эйфорию и наговорил Алексею много наивных, глуповато-напыщенных, убийственных для них обоих слов, повторённых юношей на исповеди: «обогащённый чувством, дотоле ему неведомым, чувством пленительным и новым, чувством, которое из пучины сомнений и горя выносит его на простор безудержной радости…». Алексей, жизнь которого сразу лишалась смысла, с горечью рассказывал монаху: «только одно я понял: в его жизни мне нет больше места, я должен вернуться в город, из которого он вынес меня на руках, когда мой родной дом пылал, а руки и губы были окроплены кровью моих родителей, которую он пролил, он говорил, это я помню и никогда не забуду: сейчас всё сошлось на том, чтобы нам расстаться и чтоб моя жизнь перестала быть твоей жизнью, а твоя моей, я спросил: когда мне уйти?, он сказал: ты получишь всё, что причитается человеку, который должен был стать моим наследником, когда мне уйти? – спросил я снова…».
Если бы даже граф остался живым, он вскоре убедился бы, что и любовь Жака не может изменить ни его сути, ни судьбы. Все трое, Людовик, Алексей и Жак, несвободны в своём поведении; сами того не зная, они запрограммированы и обречены на гибель.
Свобода выбора и «запрограммированность» в сексе и жизни
Проще всего проследить механизмы программирования на Алексее. Подобно Гумберту из романа «Лолита», он – продукт импринтинга. Трагическая ночь резни навсегда запечатлелась в памяти Алексея. Мало того, пережитое оказалось спаянным с его сексуальностью. Страх смерти, крики умирающих, бряцание оружия и появление «юного, сияющего» Людовика на фоне зловещего зарева – всё это неразрывно слилось вместе на всю жизнь, «и я сразу полюбил его, помню короткие вспышки его меча, потом, помню, на мои стиснутые у горла руки брызнули струйки, то была кровь моих родителей».
В отличие от животных, импринтинг связан у человека, как правило, не только с пережитыми им сверхсильными эмоциями, но и с особым складом его нервной системы, обусловленным заболеваниями мозга, асфиксией (удушьем), травмами, в том числе родовыми. С Алексеем нечто подобное случилось в младенчестве. Об этом рассказал ему его воспитатель, разыскав юного грека во Франции: «ты тяжело заболел и бредил в беспамятстве, лекари, все до одного, сомневались, можно ли тебя спасти, я же днём и ночью бодрствовал подле тебя, и, когда на третью ночь, не приходя в чувство, ты стал умирать, окостенел, а стопы твои и кисти рук, несмотря на жар, сделались холодными, как лёд, я взял тебя на руки и сказал: ты должен жить, ты должен услышать, что я говорю тебе: ты должен жить, не помню, сколько раз повторял я эти слова, может быть, десять, а может быть, сто, зато помню, что в конце концов ты открыл глаза и посмотрел на меня, держащего тебя на руках, ясным взглядом… ».
Как бы то ни было, сексуальность Алексея была прочно спаянна с чувством полного подчинения сильной личности, мужчине, способному принести своему избраннику боль и унижение, но могущему также дать ему чувство безопасности, утолить тревогу, спасти от одиночества. Любовник был рыцарем зла, поскольку его появление сопровождалось смертью близких и крушением мира, привычного мальчику. Задолго до того, как они стали близки физически, он вполне постиг мятущуюся душу Людовика. Так не мог понять себя и сам крестоносец. Ведь увидев в детстве реальное воплощение религиозного фанатизма, Алексей раз и навсегда понял ложность идеи освобождения Гроба Господня. Сама она была ересью: согласно евангельскому мифу, Христос был положен в пещере завёрнутым в саван. Из склепа он исчез на третий день пасхи, воскреснув и вознесшись на Небо. Кому, как не крестоносцам, около ста лет правившим Иерусалимом, не знать о том, что гроба Господня и в природе-то никогда не было. Воспринимая лишь тёмную ипостась Людовика и понимая ложность всего, во что тот верил, Алексей, отрицал и само существование Бога, о чём сам недвусмысленно признался монаху на исповеди.
Итак, импринтинг сделал юного грека садомазохистом и гомосексуалом. Его любовь к Людовику ни для кого не была тайной; Алексей ни за какие блага не желал бы отказаться от неё. В этом убедился воспитатель, спасший его когда-то от неминуемой смерти: «в егоголосе была печаль: значит, ты любишь человека, руки которого обагрены кровью твоих родителей, я повторил, не поднимая глаз: не хочу тебя больше видеть, и если ты ещё раз появишься на моём пути, я убью тебя или прикажу убить, хорошо, сказал он, помолчав, – я уйду, и ты меня больше не увидишь, но прежде чем уйти одно хочу тебе сказать: я проклинаю, Алексей Мелиссен, ту минуту, когда тебе, умирающему, крикнул: ты должен жить…».
Когда, повстречав Жака, Людовик прогнал Алексея, всё для него пошло прахом; с горечью он подумал: «Жака, о котором он ничего не знал, он смог полюбить, меня же, о котором он знал всё, полюбить не смог, хотя и говорил вначале, что любит, а теперь, так и не полюбив, думает, что может жить без меня…». Но ещё до того мгновенья,«как его сжатый кулак в последний раз мелькнул среди жёлтых и вспененных вод Луары», Алексей попытался сам освободиться от своей зависимости. Увы, осуществить это намерение было не под силу даже ему, с его сильной волей, физической неутомимостью и способностью ясно мыслить, ему, не остановившемуся перед убийством. Ведь смерть любовника лежит на его совести: «я мог спасти его, я знаю, что мог его спасти, среди своих ровесников я плаваю лучше всех и мог его спасти, потому что жёлтые, стремительно несущиеся вперёд волны не в одну секунду его поглотили, он тонул неподалёку от берега и долго противился смерти, прежде чем исчез, наконец, в пучине жёлтых вспененных вод, конечно он не хотел умирать, а когда почувствовал, что теряет силы и идёт на дно, конечно же в заливаемых водой глазах у него стоял образ Жака, и с этим видением он шёл на дно, в холод и шум смертоносных вод, я мог его спасти, но не двинулся с места, я думал: теперь я буду свободен, так пусть же это свершится, ведь если его не станет, я буду свободен, я буду избавлен от власти его тела и вожделения плоти, однако, когда это произошло и передо мной были уже только разлившиеся, жёлтые и вспененные воды Луары, я не почувствовал облегчения, сожаления, правда, я тоже не чувствовал, внутри меня всё оледенело, холод закрался в сердце, холодом сковало пальцы и губы…».
Этот холод уже однажды в детстве сковывал Алексея, но отступил, а сейчас, хотя юноша и стремился всеми силами выжить, его возвращение означало близость смерти, сначала душевной, а потом и физической.
Освобождаясь от заложенной в него программы, он пытается вытеснить любовника из своей души, из собственной жизни, из жизни окружающих, заменив покойного самим собой; именно этим объясняется внезапно вспыхнувшее чувство к Жаку, которое Алексей называет любовью. Но не любовь движет им; к тому же влечение, которое он испытывает к Бланш, трудно назвать гетеросексуальным: на её месте он представляет себе Жака, «хрупкого невысокого юношу в полотняной тунике с открытыми ноги и шеей, светло-каштановыми волосами, отливающими золотом и ресницами, такими длинными, что их тень падала на его щёки» . Слыша стоны и крики Бланш, порождённые женским переживанием оргазма, он мысленно приписывает их Жаку, представляя себя его любовником, повелителем и господином. И хоть сам он не отдаёт себе в этом отчёта, не любовь, а ненависть питает Алексей к избраннику Людовика. Он легко погубил бы Жака, если бы тот пошёл с ним в графский дворец. Его отказ лишь отдалял время смерти пастушка и умножал её цену: он вынуждал Алексея отказаться от владения графством и предопределил неотвратимость его собственной гибели. Примкнув к шествию детей и понимая его обречённость, Алексей делает всё, чтобы даже ценой собственной жизни привести к смерти Жака. Именно такой исход предстал в провидческом видении исповедника: ему привиделись двое детей, один со светлой, а другой с тёмной шевелюрой, бредущих по безжизненной пустыне. Светлый был слеп. Черноволосый остался лежать на песке, он послал своего спутника к якобы виднеющимся вратам Иерусалима, которых на самом деле не было и в помине. Вместо них впереди была смерть.
Так воля покойного Людовика, слившаяся с волей Алексея, стала вдвойне смертоносной.
При жизни крестоносец, полагая, что любит окружающих, приносил им лишь гибель. Между тем, он не вызывает ненависти ни у своего окружения, ни у читателей. Он – убийца и насильник; но его страстное стремление к недостижимому идеалу и нравственные муки, порождённые сознанием собственной порочности, глубоко трогают окружающих. Жак, например, с первого же взгляда на незнакомого рыцаря понял, что тот много страдает.
Как ни странно, здесь можно обнаружить сходство «Врат рая» с «Солярисом», как с романом, так и с фильмом. Но очевидна и пропасть между ними: если, по Тарковскому, процесс преодоления человеческих слабостей и садомазохизма, лежит в основе прогресса человечества в целом, хотя и не приносит победы и счастья каждому в отдельности, то, по Анджеевскому, невозможно и это. Благородная в глазах средневековых христиан, но в действительности ложная цель – освобождение Гроба Господня, породила реки крови и горы трупов, разорение городов, гибель культурных ценностей.
Крестовые походы детей не были исключением. В 1212 году они стихийно и практически одновременно возникли во Франции (его вдохновителем был 12-летний пастушок Этьен из деревни Клуа, прототип Жака) и в Германии (во главе с 10-летним Никласом). Оба мальчика, объявив себя избранниками Бога, собрали многотысячные толпы последователей (Этьен, например, вёл за собой более 30 тысяч). Разумеется, дети шли в сопровождении взрослых – фанатиков, мошенников, бродяг, убийц. По дороге они грабили и убивали беззащитных людей, начав со своих соотечественников-евреев. Многие паломники сами были убиты крестьянами и горожанами, охранявшими своё добро; многие умерли от голода и болезней. Средиземное море должно было расступиться, пропустив шествие к Иерусалиму, но, вопреки обещаниям идейных вдохновителей похода, этого не произошло. Дети были обмануты работорговцами, владельцами кораблей; их заманили на суда и продали на арабских невольничьих рынках. (Сведения об этом можно найти, в частности, в книге Михаила Заборова «Крестоносцы на Востоке»).
«Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой» для современного читателя приобрели особый смысл. На ум приходят идеи более близкие нам, гораздо более справедливые и честные, чем завоевание Гроба Господня. Такова в нашей отечественной истории социальная подоплёка Октябрьской революции с последовавшим за ней ужасным террором, творимом всеми участниками конфликта. Кто усомнится в благородстве помыслов бескорыстного польского рыцаря Феликса Дзержинского, не щадившего себя ради торжества социальной справедливости и отправившего на тот свет сотни тысяч людей?! Герои гражданской войны, рыцари революции, поэты и правдолюбцы, жертвовавшие собой ради светлой идеи, становились убийцами.
Похоже, прогресс человечества связан с чередой целей, которые поначалу представляются святыми; реализуясь, они вызывают всплеск варварства и гибель множества людей, а, став достоянием истории, оказываются порой весьма сомнительными или попросту ложными. Переломные моменты в развитии общества принимают характер социальных катаклизмов и сопровождаются эпидемиями садизма. История человечества полна примерами высочайшего благородства и неслыханной жестокости, вызванной к жизни как алчностью, властолюбием и садизмом, так и самыми справедливыми и светлыми идеями.
Средневековый армянский поэт Наапет Кучак написал однажды стихи, которые я приведу в подстрочном переводе (очень уж многое теряется в известных мне стихотворных переложениях этого айрена):
Господи, в каждый час и в каждую минуту
спаси меня от людского зла.
Людское зло – это так страшно,
что и зверь от него бежит.
Лев, царь зверей,
закован в цепи,
орёл, страшась человека,
парит в поднебесье.
Люди, а не животные изобрели мучительную смерть от усаживания на кол, от сдирания кожи с живого человека, от зашивания во вспоротый живот жертвы голодных крыс… Этот список можно продолжать бесконечно. Увы, с развитием возможностей человечества возрастают масштабы его злодеяний. Войны становятся кровопролитнее, множатся людские потери. Вооружённый террорист безмерно рад тому, что способен отправить в небытие сотни и даже тысячи незнакомых ему людей, не сделавших ему ничего дурного. Не задумываясь, жертвует он своей жизнью, убивая как можно больше неверных… А их программисты-вдохновители предпочитают посылать на подвиги во имя Аллаха женщин и девушек, казалось бы, самой природой созданных для милосердия и любви.
Благородный мечтатель Людовик (кстати, реальный персонаж истории, участник четвёртого крестового похода) превратил безгрешного Жака в фигуру более губительную, чем Крысолов, который увёл в никуда детей из Гамельна. Этот символ вдвойне выразителен: пастух, увлекающий доверившихся ему людей на гибель.
Жак – тоже жертва садомазохизма, хотя его чувства так похожи на настоящую любовь. Как же отличить любовь от бесчисленных подделок под неё, о которых предупреждает в своей максиме французский мыслитель Ларошфуко?
Формула любви
Все любят и боготворят Жака (или, по крайней мере, думают, что любят его), по-разному объясняя своё чувство. Мод, девушка из Клуа, первая поверившая в богоизбранность пастушка, говорит на исповеди: «я люблю его улыбку, которая не улыбка даже, а как бы робкое её обещание, его улыбка открывает передо мной Царство Небесное, всем собой он открывает Царство Небесное, я всегда могла молиться ему, как небесам, я верю, что Жак приведёт нас в Иерусалим». В день мессианского прозрения она увидела его таким: «он был бледен той чистой и вдохновенной бледностью, которая кажется отражением особого внутреннего света, побледневший, он сходил с холма, который возвышался над пастбищем на краю леса, потом она увидела его среди пастухов, онемевших от изумления, столь странным было появление его среди них, тогда он впервые сказал: Господь всемогущий возвестил мне противу бездушной слепоты рыцарей…». Поэтическая природа Жака, позднее породившая его религиозный экстаз, и его особая одухотворённая красота сделали его избранником графа; пастух рассказывает: « …мы лежали рядом на моей жёсткой подстилке, помню, он говорил: когда я ехал один в лесу, мне было чертовски грустно, мир казался мне огромной скуделью нужды и страданий, человек – заблудшей тварью, жизнь – лишённой надежд, но едва я увидел тебя, стоящего у костра, тотчас же мрак, объемлющий мир, сделался не таким беспросветным, участь человека – не столь безнадёжной, жизнь – ещё не растерявшей остатки тепла, подумай, какими богатствами ты владеешь, если одним своим существованием способен воскрешать надежду, я чувствовал, как под незакрытыми веками у меня закипают слёзы, мне было хорошо, как ещё никогда в жизни, ты не знаешь меня, господин, сказал я». В ответ Людовик разразился собственным объяснением природы любви, чем-то перекликающимся с «Пиром» Платона и, по-видимому, в чём-то близком самому Анджеевскому: «если человек только непостижимая тайна, другому человеку трудно его полюбить, но если в нём нет ничего потаённого, полюбить его невозможно, ибо любовь – поиск и узнавание, влечение и неуверенность, торопливость и ожидание, всегда ожидание, даже если ждать невмоготу, любовь это особое и неповторимое состояние, когда желания и страсти жаждут удовлетворения, но не хотят переступать той последней черты, за которым оно будет полным, ибо любовь, по природе своей будучи неистовой потребностью удовлетворения желаний, с удовлетворением себя не отождествляет, любовь не удовлетворение и не способна им стать, зная тебя, я б не мог устремить к тебе свои желанья, так как для них только неведомое вместилище пригодно, однако, если б я ничего о тебе не знал и ни о чём не мог догадаться, я бы тоже отпрянул от тебя, словно от предательского ущелья в горах или стремительного речного водоворота, любовь – зов и поиск, она хочет подчинить себе всё, но всякое удовлетворение желаний её убивает, она вечно томима жаждой, но всякое удовлетворение желаний умерщвляет её, любовь – отчаянье средь несовместимых стихий, но вместе с тем и надежда, неугасимая надежда средь несовместимых стихий…».
Людовик во многом прав, но за его рассуждениями скрывается невротический страх перед любовью, страх садомазохиста, неспособного любить и боящегося очередного крушения надежд. Его поэтический панегирик Жаку можно перевести на язык нейрофизиологии и эволюционной биологии; правда, прежде всего, он должен быть дополнен определением главных атрибутов любви.
Эта тема обсуждается практически во всех моих книгах («Об интимном вслух»; «Глазами сексолога. (Философия, мистика и «техника секса»)»; «На исповеди у сексолога»; «Секреты интимной жизни. Знание. Здоровье. Мастерство»; «Тайны и странности «голубого» мира»).
Предки человека относились к полигамным животным; в их стае на одного самца приходится несколько самок. Самцы таких видов отличаются агрессивностью и половым поисковым поведением – стремлением вступать в половые связи со всеми самками стаи. Подобное поведение вызывается мужскими половыми гормонами, андрогенами. Если кастрировать взрослого самца, то, сохраняя способность к спариванию, он теряет половой поисковый инстинкт и агрессивность, становясь мирным и спокойным животным. Именно с этой целью человек холостит (кастрирует) жеребцов и быков, превращая их в рабочую скотину – меринов и волов. В естественных условиях животные-гипогениталы обречены на гибель, и, понятно, не способны иметь потомков.
Чтобы выжить самому и оставить после себя потомство, самцы должны быть агрессивными и похотливыми. Доминирующий (главенствующий) самец терроризирует тех самцов, что слабее его, не давая им спариваться с самками. Очевидно, что такое поведение носит приспособительный характер. Ведь агрессивность и половой поисковый инстинкт позволяют наиболее приспособленному самцу оставить после себя более многочисленное потомство, а это определяет качество популяции и, отчасти, влияет на её численность. (Количество животных в большей мере контролируется самками, ведь именно от их числа зависит численность потомства). Если в ходе мутации самец приобретает какое-то ценное преимущество перед другими самцами, то, став более приспособленным к условиям существования, он с помощью полового поискового поведения и агрессивности способен стать прародителем нового вида.
Наши далёкие предки, судя по их найденным окаменевшим останкам, насчитывающим почтенный возраст в 8 миллионов лет, обладали чертами, общими для человека и для нынешних обезьян. Речь идёт и о строении их челюстей, и черепа, и об особенностях строения их скелета в целом. (Об этом можно прочитать, например, в книгах Дональда Джохансона и Мейтленда Иди «Люси. Истоки рода человеческого» и Натана Эйдельмана «Ищу предка»).
Именно в то далёкое время и произошло первое в истории разделение приматов. Часть из них осталась в лесах, продолжая жить на деревьях. Они стали предками нынешних обезьян. Часть же популяции высших приматов (это точнее, чем называть их просто обезьянами) оказалась вне привычных для них условий обитания, не в тропическом лесу, а в африканской саванне, в поймах рек и на берегах озёр (Ян Линдблад «Человек – ты, я и первозданный»). Приматы (от латинского слова, означающего «первые») – название высших млекопитающих, объединяющее человека и человекообразных обезьян.
Скелеты и черепа приматов, обитавших в саванне спустя ещё четыре миллиона лет, свидетельствуют о том, что наши предки научились к этому времени ходить на двух ногах, пользоваться камнями и крупными костями животных при добыче пищи и при защите от хищников. Они не были ещё людьми. Учёные присвоили им имя австралопитеков («южные обезьяны»). Разумеется, прямохождение и прочие приспособительные механизмы были приобретены нашими предками в результате случайных мутаций и естественного отбора, а не в ходе их работы над собой во исполнение их собственных прогрессивных замыслов.
Шли тысячелетия. Естественный отбор продолжал отбраковывать виды животных, рвущихся в люди. Этих видов было много. Останки приматов находят не только в Африке, за пределы которой они к тому времени вышли, но и в нынешних Европе и Азии. Это были виды, представлявшие собой уже не обезьян, а обезьянолюдей (именно так переводится на русский язык термин «питекантроп» – «обезьяночеловек»).