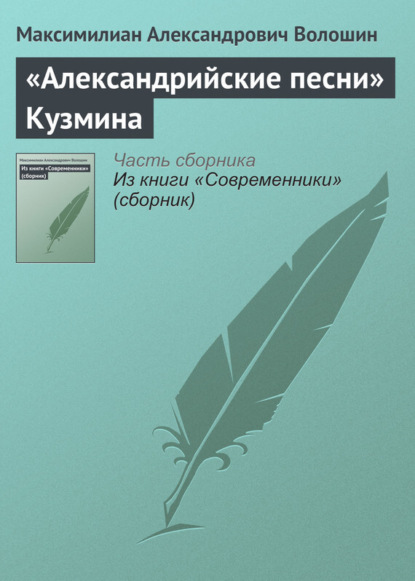По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
«Александрийские песни» Кузмина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мы купались, когда услышали крики.
Прибежав, мы увидели, что уже поздно.
Вытащенное из воды тело лежало на песке,
И то же неземное лицо – лицо колдуна,
Глядело не закрытыми глазами.
Император издали спешил, пораженный горестной вестью,
А я стоял, ничего не видя
И не слыша, как слезы, забытые с детства,
Текли по щекам.
Всю ночь я шептал молитвы,
Бредил родною Азией, Никомедией,
И голоса ангелов пели:
«Осанна! Новый Бог дан людям!»
Упоминание о Никомедии и особенно это смешение христианских понятий с язычеством и с суеверием («лицо колдуна»), несомненно, убеждают нас в сирийском происхождении автора.
В других песнях мы не находим больше никаких упоминаний о военной и лагерной жизни. Надо предположить, что поэт оставил военную службу, получив в наследство имение близ Александрии, стал вести очень широкую и роскошную жизнь и быстро растратил все, что у него было. По крайней мере в последующих песнях мы находим только воспоминания о «проданных мельницах». Когда имение было продано и последние деньги истрачены, у него явилась мысль о красивом самоубийстве в стиле Петрония, в которую он вложил, однако, столько детской беззаботности и грации, что эти мечты послужили темой для одной из его лучших песен.
«Сладко умереть на поле битвы за родину, слыша кругом: „Прощай, герой!“» – говорит он, вспоминая свою службу в войсках императора.
«Сладко умереть маститым старцем… слыша кругом „прощай, отец“».
Но еще слаще, еще мудрее,
Истративши все именье,
Продавши последнюю мельницу
Для той, которую завтра забыл бы,
Вернувшись после веселой прогулки
В уже проданный дом, поужинать
И, прочитав рассказ Апулея в сто первый раз,
В теплой душистой ванне, не слыша никаких прощаний,
Открыть себе жилы.
И чтобы в длинное окно у потолка
Пахло левкоями, светила заря
И вдалеке были слышны флейты.
Но эллинская привязанность к милой жизни не позволила поэту последовать примеру пресыщенного римского вельможи.
Сперва он жил у своих друзей, которые приютили его, заботясь о нем, и охраняли от мрачных и трагических мыслей.
К нему снова вернулась любовь к жизни:
Как люблю я, вечные боги,
Светлую печаль, любовь до завтра,
Смерть без сожаления о жизни…
Как люблю я солнце, тростники
И блеск зеленоватого моря
Сквозь тонкие ветки акаций!
Как люблю я книги (моих друзей),
Тишину одинокого жилища
И вид из окна на дальние дынные огороды.
Он некоторое время еще с грустью проходил «по широкой дороге между деревьев – мимо мельниц, бывших когда-то моими, но промененных на запястья тебе».
Из последующей его жизни мы знаем только то, что он был библиотечным писцом, как это видно из его великолепного гимна Солнцу.
«Солнце, Солнце, – говорит он: – Я – бледный писец, библиотечный затворник, но я люблю тебя, Солнце, не меньше, чем загорелый моряк, пахнущий рыбой и соленой водой, и не меньше, чем его привычное сердце ликует при твоем царственном восходе из океана, мое трепещет, когда твой пыльный, но пламенный луч скользнет сквозь узкое окно у потолка на исписанный лист и на мою тонкую желтоватую руку, выводящую киноварью первую букву гимна тебе, о, Ра-Гелиос, Солнце!»
Как видно из этого гимна, поэт в конце своей жизни становится вполне язычником, и христианские влияния и верования его юности стираются и исчезают совершенно. Быть может, на него повлияли в этом отношении смерть Антиноя и его обожествление, которые так потрясли его сердце, и у нас является невольная мысль о том, не принимал ли он участия в организации тех благотворительных обществ во имя Антиноя, которые получили большое развитие в его эпоху и спустя два столетия уже готовыми учреждениями перешли в руки христиан.
Этим кончаются все наши сведения о внешних обстоятельствах жизни автора «Александрийских песен» в том далеком эллинском восемнадцатом веке, откуда он принес свои сияющие воспоминания.
Темой его песен служит любовь – счастливая, мгновенная и необъяснимая. Одна из четырех сестер в его песне говорит: «Нас было четыре сестры, и мы все любили, но у каждой было разное „потому что“. Одна любила, потому, что ей родители велели; другая любила потому, что богат был ее любовник; третья любила потому, что он был знаменитый художник, а я любила потому, что любила».
Он никогда не называет любимых им по именам, отличаясь в этом случае от своего соотечественника Мелеагра, который, подобно Бальмонту, постоянно компрометировал своих возлюбленных, вплетая имена их в свои благоухающие стихи: Демо, Тимо, Фания, Тимарион, Зенофила, Элиодора…
В одном стихотворении Мелеагр говорит: «Ты спишь ли, Зенофила, мой нежный стебель? О, почему не могу я теперь бескрылым Сном проникнуть под твои веки, для того, чтобы даже он, он, который колдует над очами самого Зевса, не пребывал в тебе, потому что я один хочу владеть тобою».
В «Александрийских песнях» нет этой четкой краткости написанной эпиграммы. Они не писались, не переправлялись десятки раз на восковых дощечках. Они складывались свободно и легко под струнные звуки кифары и пелись под аккомпанемент флейты. В их неправильно и свободно чередующихся стихах сохранились изгибы живого голоса и его интонации. Они нераздельны с той музыкальной волной, которая вынесла их на свет. В них есть романтизм, незнакомый Мелеагру.
Если бы я был рабом твоим последним,
Сидел бы я в подземелье,
И видел бы раз в год или в два года
Золотой узор твоих сандалий,
Когда ты случайно мимо темниц проходишь,
И стал бы счастливее всех живущих в Египте.
Когда он хочет описать свою возлюбленную, он не называет ее, он говорит от ее лица, запечатляя стихом ее младенческий лепет:
«Сегодня праздник; все кусты в цвету, поспела смородина, и лотос плавает в пруду, как улей… Хочешь, я станцую Осу одна на зеленой лужайке для тебя одного? Хочешь, я угощу тебя смородиной, не беря руками, и ты возьмешь губами из губ красные ягоды и вместе поцелуи?»
А другая говорит:
«Разве не правда, что я первая в Александрии по роскоши дорогих уборов… что никто не умеет подвести глаза меня искусней и каждый палец напитать отдельным ароматом? Разве не правда, что с тех пор, как я тебя увидала… ничего я больше не желаю, как видеть твои глаза, серые под густыми бровями, и слышать твой голос?»
У его Эроса нет трагического лица. В этом мире все знают, что «милое тело дано для того, чтоб потом истлело», и все кончается радостно-грустным призывом:
Кружитесь, кружитесь,
Держитесь крепче за руки!
Он не написал ни одной надгробной эпитафии ни самому себе, ни своим подругам, подобно тому как их любили писать другие греческие певцы и особенно его старший брат Мелеагр, написавший на могиле Айсигены:
«О, земля, наша общая мать, привет тебе! Будь легка над моей Айсигеной, ведь она сама так мало тяготила тебя».
Быть может, поэт знал, что он не умрет вместе с эллинской радостью, и ушел из той жизни не через врата Смерти?
Но почему же он возник теперь, здесь, между нами в трагической России, с лучом эллинской радости в своих звонких песнях и ласково смотрит на нас своими жуткими огромными глазами, усталыми от тысячелетий?
Зачем он с своей грустной эллинской иронией говорит нам жесткие слова:
Солнце греет затем,
Прибежав, мы увидели, что уже поздно.
Вытащенное из воды тело лежало на песке,
И то же неземное лицо – лицо колдуна,
Глядело не закрытыми глазами.
Император издали спешил, пораженный горестной вестью,
А я стоял, ничего не видя
И не слыша, как слезы, забытые с детства,
Текли по щекам.
Всю ночь я шептал молитвы,
Бредил родною Азией, Никомедией,
И голоса ангелов пели:
«Осанна! Новый Бог дан людям!»
Упоминание о Никомедии и особенно это смешение христианских понятий с язычеством и с суеверием («лицо колдуна»), несомненно, убеждают нас в сирийском происхождении автора.
В других песнях мы не находим больше никаких упоминаний о военной и лагерной жизни. Надо предположить, что поэт оставил военную службу, получив в наследство имение близ Александрии, стал вести очень широкую и роскошную жизнь и быстро растратил все, что у него было. По крайней мере в последующих песнях мы находим только воспоминания о «проданных мельницах». Когда имение было продано и последние деньги истрачены, у него явилась мысль о красивом самоубийстве в стиле Петрония, в которую он вложил, однако, столько детской беззаботности и грации, что эти мечты послужили темой для одной из его лучших песен.
«Сладко умереть на поле битвы за родину, слыша кругом: „Прощай, герой!“» – говорит он, вспоминая свою службу в войсках императора.
«Сладко умереть маститым старцем… слыша кругом „прощай, отец“».
Но еще слаще, еще мудрее,
Истративши все именье,
Продавши последнюю мельницу
Для той, которую завтра забыл бы,
Вернувшись после веселой прогулки
В уже проданный дом, поужинать
И, прочитав рассказ Апулея в сто первый раз,
В теплой душистой ванне, не слыша никаких прощаний,
Открыть себе жилы.
И чтобы в длинное окно у потолка
Пахло левкоями, светила заря
И вдалеке были слышны флейты.
Но эллинская привязанность к милой жизни не позволила поэту последовать примеру пресыщенного римского вельможи.
Сперва он жил у своих друзей, которые приютили его, заботясь о нем, и охраняли от мрачных и трагических мыслей.
К нему снова вернулась любовь к жизни:
Как люблю я, вечные боги,
Светлую печаль, любовь до завтра,
Смерть без сожаления о жизни…
Как люблю я солнце, тростники
И блеск зеленоватого моря
Сквозь тонкие ветки акаций!
Как люблю я книги (моих друзей),
Тишину одинокого жилища
И вид из окна на дальние дынные огороды.
Он некоторое время еще с грустью проходил «по широкой дороге между деревьев – мимо мельниц, бывших когда-то моими, но промененных на запястья тебе».
Из последующей его жизни мы знаем только то, что он был библиотечным писцом, как это видно из его великолепного гимна Солнцу.
«Солнце, Солнце, – говорит он: – Я – бледный писец, библиотечный затворник, но я люблю тебя, Солнце, не меньше, чем загорелый моряк, пахнущий рыбой и соленой водой, и не меньше, чем его привычное сердце ликует при твоем царственном восходе из океана, мое трепещет, когда твой пыльный, но пламенный луч скользнет сквозь узкое окно у потолка на исписанный лист и на мою тонкую желтоватую руку, выводящую киноварью первую букву гимна тебе, о, Ра-Гелиос, Солнце!»
Как видно из этого гимна, поэт в конце своей жизни становится вполне язычником, и христианские влияния и верования его юности стираются и исчезают совершенно. Быть может, на него повлияли в этом отношении смерть Антиноя и его обожествление, которые так потрясли его сердце, и у нас является невольная мысль о том, не принимал ли он участия в организации тех благотворительных обществ во имя Антиноя, которые получили большое развитие в его эпоху и спустя два столетия уже готовыми учреждениями перешли в руки христиан.
Этим кончаются все наши сведения о внешних обстоятельствах жизни автора «Александрийских песен» в том далеком эллинском восемнадцатом веке, откуда он принес свои сияющие воспоминания.
Темой его песен служит любовь – счастливая, мгновенная и необъяснимая. Одна из четырех сестер в его песне говорит: «Нас было четыре сестры, и мы все любили, но у каждой было разное „потому что“. Одна любила, потому, что ей родители велели; другая любила потому, что богат был ее любовник; третья любила потому, что он был знаменитый художник, а я любила потому, что любила».
Он никогда не называет любимых им по именам, отличаясь в этом случае от своего соотечественника Мелеагра, который, подобно Бальмонту, постоянно компрометировал своих возлюбленных, вплетая имена их в свои благоухающие стихи: Демо, Тимо, Фания, Тимарион, Зенофила, Элиодора…
В одном стихотворении Мелеагр говорит: «Ты спишь ли, Зенофила, мой нежный стебель? О, почему не могу я теперь бескрылым Сном проникнуть под твои веки, для того, чтобы даже он, он, который колдует над очами самого Зевса, не пребывал в тебе, потому что я один хочу владеть тобою».
В «Александрийских песнях» нет этой четкой краткости написанной эпиграммы. Они не писались, не переправлялись десятки раз на восковых дощечках. Они складывались свободно и легко под струнные звуки кифары и пелись под аккомпанемент флейты. В их неправильно и свободно чередующихся стихах сохранились изгибы живого голоса и его интонации. Они нераздельны с той музыкальной волной, которая вынесла их на свет. В них есть романтизм, незнакомый Мелеагру.
Если бы я был рабом твоим последним,
Сидел бы я в подземелье,
И видел бы раз в год или в два года
Золотой узор твоих сандалий,
Когда ты случайно мимо темниц проходишь,
И стал бы счастливее всех живущих в Египте.
Когда он хочет описать свою возлюбленную, он не называет ее, он говорит от ее лица, запечатляя стихом ее младенческий лепет:
«Сегодня праздник; все кусты в цвету, поспела смородина, и лотос плавает в пруду, как улей… Хочешь, я станцую Осу одна на зеленой лужайке для тебя одного? Хочешь, я угощу тебя смородиной, не беря руками, и ты возьмешь губами из губ красные ягоды и вместе поцелуи?»
А другая говорит:
«Разве не правда, что я первая в Александрии по роскоши дорогих уборов… что никто не умеет подвести глаза меня искусней и каждый палец напитать отдельным ароматом? Разве не правда, что с тех пор, как я тебя увидала… ничего я больше не желаю, как видеть твои глаза, серые под густыми бровями, и слышать твой голос?»
У его Эроса нет трагического лица. В этом мире все знают, что «милое тело дано для того, чтоб потом истлело», и все кончается радостно-грустным призывом:
Кружитесь, кружитесь,
Держитесь крепче за руки!
Он не написал ни одной надгробной эпитафии ни самому себе, ни своим подругам, подобно тому как их любили писать другие греческие певцы и особенно его старший брат Мелеагр, написавший на могиле Айсигены:
«О, земля, наша общая мать, привет тебе! Будь легка над моей Айсигеной, ведь она сама так мало тяготила тебя».
Быть может, поэт знал, что он не умрет вместе с эллинской радостью, и ушел из той жизни не через врата Смерти?
Но почему же он возник теперь, здесь, между нами в трагической России, с лучом эллинской радости в своих звонких песнях и ласково смотрит на нас своими жуткими огромными глазами, усталыми от тысячелетий?
Зачем он с своей грустной эллинской иронией говорит нам жесткие слова:
Солнце греет затем,