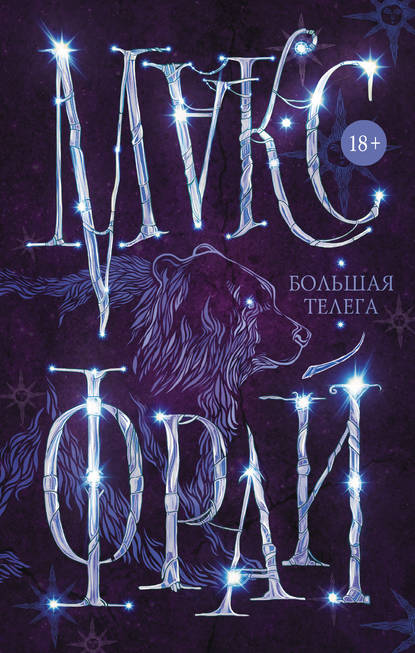По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Большая телега
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вот именно, проверить, – кивнула Биргит. Помолчала и почти неохотно добавила: – Понимаешь, этот почтовый ящик – просто легенда. Его, по идее, не существует. Но мне сейчас очень-очень надо, чтобы он все-таки был. Я его уже давно ищу – везде, вернее, в самых неподходящих местах, где не может быть никаких почтовых ящиков. И – вот, видишь? Может быть, это он и есть? Ну, мало ли.
– А что за легенда-то? – спросил я.
– Я даже не уверена, что эта история тянет на полноценную легенду, – смущенно сказала Биргит. – Просто есть такая тема, которая время от времени всплывает в разговорах, кто-нибудь да скажет как бы в шутку, что этот город порой вступает в дружескую переписку со своими жителями. Не со всеми, конечно. Только с важными для него персонами. Рассказывают, например, что когда польский король Станислав только-только стал лотарингским герцогом[2 - Станислав I Лещинский – воевода познанский, был избран королем Польши под нажимом Швеции, но не признан большинством шляхты. Поражение Карла XII под Полтавой (1709) лишило Станислава поддержки шведских войск, он эмигрировал в Пруссию, а затем во Францию. В 1738 году окончательно отказался от притязаний на польский престол и получил во владение Лотарингию, столицей которой был город Нанси.] и прибыл в Нанси, таинственный посланец в стеклянном плаще вручил ему приветственное письмо якобы от главы семейства Вож[3 - Вож, вогез (фр. vosges) – так в Нанси называют восточный ветер.]. А когда несколько дней спустя Станислав решил лично поблагодарить отправителя за добрые слова и дельные советы, выяснилось, что такой семьи нет не только в Нанси, но и во всей Лотарингии.
Заметив, наконец, мое недоумение, она пояснила:
– «Вож» – так здесь называют восточный ветер. Герцог этого, понятно, тоже не знал, а когда узнал, сперва рассердился, что его разыграли, но потом решил, что советами из такого источника пренебрегать не следует, и правил, как принято говорить в таких случаях, долго и мудро… Но это – просто байка. Я хочу сказать, письмо от семейства Вож в архивах не сохранилось, и никаких упоминаний о нем в других документах не осталось. Вообще ничего, кроме самой истории, которую, впрочем, тоже мало кто знает. А вот что касается Эмиля Галле[4 - Эмиль Галле – французский художник и дизайнер, один из основателей стиля «Ар Нуво». Родился в Нанси 8 мая 1846, в семье предпринимателя, производившего художественное стекло и керамику. Занимался рисованием и стеклоделием, а также ботаникой, минералогией и философией. После ухода отца на покой возглавил семейное дело и завел собственную мастерскую. В 1901 по инициативе Галле был организован «Провинциальный альянс художественной промышленности», позднее известный как «Школа Нанси», который стал вторым (после Парижа) центром французского «Ар Нуво».]…
– А что было с Эмилем Галле? – Оживился я. – К нему, что ли, тоже гонца отправляли?
– Это, кстати, совершенно прекрасно и удивительно, что ты не спрашиваешь, кто он такой. Можно подумать, я умерла и оказалась в специальном раю для искусствоведов. Это такое замечательное место, где все происходит примерно как при жизни, просто каждый случайный прохожий знает, кто такой Эмиль Галле. И это полностью меняет ситуацию.
– А ты, выходит, искусствовед?
– Ну да. И Эмиль Галле – как раз моя тема. Я уже много лет занимаюсь Нансийской школой, точнее, их стеклом, а по стеклу как раз Галле главный. Я, собственно, затем в Нанси и приехала – монографию о его «говорящем стекле»[5 - «Говорящими» называют стеклянные изделия Эмиля Галле с цитатами из Бодлера, Вийона, Верлена и других поэтов.] писать, и тут вдруг все так закрутилось… Неважно. Важно, что про Эмиля Галле я знаю, пожалуй, больше, чем он сам о себе знал при жизни, хотя бы потому, что у него не было возможности дневники и личную переписку своих родных и знакомых читать, а у меня – есть. Так вот. Была одна история, о которой сам Галле ни разу не упомянул – я имею в виду, письменно – зато в чужих пересказах якобы с его слов она встречается аж четырежды. Причем, одна свидетельница – женщина из Веймара, где он учился, задушевная подруга юности, переписку с которой Галле поддерживал на протяжении всей жизни, иногда, правда, с перерывами на несколько лет. В общем, практически нет шансов, что она была знакома с тремя другими источниками, а значит, велика вероятность, что история действительно известна ей со слов самого Галле… Ладно, на самом деле все это не очень важно. Как бы мы ни хотели сделать историю точной наукой, а она все равно никогда ею не станет.
К самой бессмысленной болтовне, если она ведется по-немецки, я привык относиться, как к бесплатному уроку разговорного языка, и принимать ее с благодарностью, но тут понемногу начал терять терпение.
– И что именно случилось с Эмилем Галле?
– Однажды, еще студентом, Галле вернулся в Нанси – к родителям, на каникулы. Он прогуливался по парку – какому именно, источники, к сожалению, не сообщают – и вдруг заметил почтовый ящик чуть ли не на самой верхушке высокого дерева. Залез туда из любопытства и обнаружил в ящике открытку. А на открытке – горящая лампа с прозрачным абажуром, разрисованным диковинными цветами. Представляешь?!
На этом месте Биргит почему-то умолкла, адресовав мне смущенный и одновременно торжествующий взгляд.
– И что там было написано? – Спросил я.
– Понятия не имею. Скорее всего, ничего… Ой, дошло! Ты, наверное, просто не знаешь, что именно Эмиль Галле первым стал расписывать прозрачные абажуры, чтобы цвет прозрачных красок смешивался со светом лампы, до него так никто не делал. Даже Тиффани начал чуть-чуть позже. Значит, когда Галле был студентом, открытки с таким изображением просто не могло быть. Но она была! И подсказала ему грандиозную идею. В этом все дело.
– Круто, – откликнулся я. Впрочем, без особого энтузиазма. История про открытку меня скорее разочаровала. Подумаешь – расписной абажур. Тоже мне величайшая идея всех времен. Спасенное человечество кланяется в пояс.
– Ты не понимаешь, – огорчилась Биргит. – Потому что я неправильно рассказываю. Надо было сперва упомянуть разные важные обстоятельства. Например, сказать, что у Галле тогда был очень непростой период жизни. Он изучал ботанику, химию и одновременно философию. Эти науки интересовали его больше, чем стекло и керамика, которыми занимался отец. А тот, в свою очередь, мечтал вслух: вот, закончишь учебу, передам тебе свое предприятие, уйду на покой с легким сердцем. Если бы Эмиль решительно не желал заниматься отцовским делом, было бы проще, всегда можно наотрез отказаться. Но проблема в том, что он и этого тоже хотел всем сердцем – быть художником, рисовать, лепить, мастерить красивые вещи. Столько всего хочется сделать, а жизнь всего одна, не успеть. Бедняга просто на стенку лез, не зная, что выбрать! И тут вдруг почтовый ящик на дереве, и эта открытка. Дело даже не в том, что годы спустя воплощение идеи принесло Галле славу и большие доходы. Просто в этой лампе с расписным светящимся абажуром все вдруг чудесным образом соединилось: отцовское стекло как основа, знание ботаники, необходимое для создания растительного орнамента, химия, чтобы составлять специальные прозрачные краски, ну и философия – это же, понимаешь, такая специальная невидимая колба, превращающая любое действие в алхимическое чудо. И тогда он вдруг понял, как можно. И решил для себя, как все теперь будет – раз и навсегда. И с того дня был счастлив. По его собственному утверждению, всегда, что бы ни происходило в жизни. Потому что счастье – естественное состояние человека, который знает свое предназначение и следует ему, для такого любые житейские невзгоды – просто рябь на поверхности. Теперь понимаешь?
– Теперь понимаю, – эхом откликнулся я. И не удержался от вопроса: – Ты поэтому хочешь залезть на дерево? Думаешь, там, в ящике, какая-нибудь открытка? Специально для тебя?
– Конечно, ничего такого я не думаю, – вздохнула Биргит. – Это было бы очень глупо, тебе не кажется?
Я понимающе улыбнулся, и она, чуть помедлив, тоже.
– Поэтому я не думаю, а просто надеюсь. Надежда сама по себе довольно дурацкое чувство. Надеяться можно на что угодно, в том числе, на всякие глупости, которые нормальному человеку и в голову не придут.
Надо же, родная душа. Ее рассуждения были ужасно похожи на мои дипломатические отношения с внутренним скептиком: всерьез обдумывать всякую чепуху я, из уважения к его могучему интеллекту, конечно, не стану. Разве только втайне надеяться, что… Что.
Я наконец вспомнил, за каким чертом сам притащился в этот парк. Дурацкое телефонное сообщение, написанное кириллицей, тревожное и прельстительное: «Ваша корреспонденция доставлена по адресу: Nancy, Rue Sellier, Jardin de la Citadelle, почтовый ящик». Это что же получается, замирая от восторга, спросил я себя. На дереве, что ли, тот самый почтовый ящик? Там для меня, выходит, послание припрятано? И получив его, я внезапно пойму, как можно? И с этого момента буду счастлив всегда, что бы ни случилось, потому что человеку, который узнал свое предназначение, иначе нельзя? О, господи.
Мой внутренний скептик отвернулся и демонстративно зажал уши, не желая иметь никакого отношения к происходящему. Но без него оказалось даже лучше. Я открыл было рот, чтобы рассказать Биргит про sms и предложить ей поучаствовать в получении моей таинственной корреспонденции, но она заговорила первой, и я не стал перебивать.
– Понимаешь, и герцог Станислав, и Эмиль Галле – они знаменитости, великие люди, каждый в своем роде. А про знаменитостей чего только не рассказывают. Я бы не стала искать этот почтовый ящик, если бы не Доротея. Она – хозяйка квартиры, которую я снимаю. Уж точно не знаменитость. Хотя, конечно, обычной дамой ее не назовешь. Ей уже почти шестьдесят, а с виду больше сорока не дашь. Красивая – слов нет. И светится изнутри, как лампы Галле, которыми я тебе зачем-то все уши прожужжала. И вечно занята по горло, у нее художественная студия, где дети учатся рисовать вместе с родителями, два литературных клуба, один для читателей, а второй для любителей придумывать детективные сюжеты, раз в неделю она проводит экскурсии по городу, причем только для местных жителей, которые давно привыкли жить среди этой красоты и поэтому ее не замечают, и еще что-то – я, видишь, запомнить не могу, а она все это придумала, организовала и уже много лет на себе тянет. И, похоже, ужасно счастлива… Так вот, мы как-то незаметно подружились, я вообще легко схожусь с людьми, и однажды Доротея мне рассказала, что прежде жила совсем иначе: бездельничала, скучала, часто болела, детей не завела, и муж ее, как водится, бросил ради молоденькой студентки, после двадцати лет совместной жизни – что еще надо женщине, чтобы почувствовать себя абсолютно несчастной? Говорит, что не покончила с собой только потому, что трусиха, никаких иных резонов жить дальше у нее не было. И тут в один прекрасный день она обнаружила на пороге извещение. Дескать, на ваше имя пришла корреспонденция, будьте любезны явиться по адресу…
– Улица Сельер, сад Цитадели, – продолжил я.
– Нет-нет-нет. Парк Шарля Третьего. Это в другой стороне, возле реки. Неважно. В общем, совсем рядом с ее домом, поэтому Доротея не удивилась, решила, что почтовое отделение переехало по другому адресу. В парк, так в парк, чего только не случается. И пошла. Но в парке, конечно, никакого почтового отделения не было, только клумбы, кусты, скамейки и мамаши с колясками. Доротея ужасно расстроилась, села на скамейку под деревом в стороне от прогулочных дорожек, чтобы никто ее не видел, расплакалась, и никак не могла успокоиться – ну, знаешь, как бывает, когда все плохо, любая мелочь может стать последней каплей. Сидела, рыдала, и вдруг почувствовала, что в ее затылок упирается что-то твердое. Обернулась, а там, на дереве, металлический почтовый ящик. Самый обычный, точно такой же, как у нее дома, только без номера квартиры и прикручен к стволу куском каната с обрывками тряпичных флажков, как будто его на каком-нибудь детском празднике позаимствовали. И Доротея так удивилась, что даже плакать перестала. А потом увидела, что ящик приоткрыт, и внутри что-то белеет. И, почти не соображая, что делает, протянула руку и взяла конверт. А там ее фамилия. И внутри – нет, не открытка, а просто письмо. Доротея мне не пересказывала, что там было написано. Только сказала, что нашла в письме очень простые и понятные ответы на все вопросы, которые у нее никогда не хватало смелости себе задать. И что назвать это письмо спасательным кругом для утопающего – значит очень сильно преуменьшить его значение. И что с тех пор все стало совсем иначе… И вот ее история меня зацепила. Так зацепила, что я уже который день по паркам брожу, и не только по паркам, хотя мне-то никакого извещения не присылали… Но все равно.
– Погоди, а почему ты просто не пошла в парк не помню какого по счету Шарля?
– Третьего. Конечно же, я туда пошла. Первым делом! Но там не было никакого почтового ящика. Понимаешь, не факт, что он всегда висит на одном и том же месте. Доротея говорит, что слышала похожую историю от человека, который нашел почтовый ящик с каким-то важным для него письмом на набережной Мёрта[6 - Мёрт (Meurthe) – река, на берегах которой стоит Нанси.]. Он там просто валялся, как сломанный стул. Это, конечно, может быть выдумка. И история самой Доротеи тоже. Она вполне могла меня разыграть, почему нет. В Нанси, как, наверное, в любом другом городе, обожают потешаться над приезжими, особенно над романтичными натурами, вроде меня. Мне вон недавно на университетской вечеринке коллеги с серьезными лицами описывали торжественный выезд герцога Станислава, который якобы можно увидеть на площади в самую темную майскую ночь, и любезно подсказывали, что ближайшее новолуние двадцать четвертого мая, то есть, буквально на днях, надеялись, я побегу проверять… А все-таки сюжет с письмами и почтовыми ящиками повторяется слишком часто. И нравится мне так сильно, что я просто не могла не поверить. И, потом, мне сейчас, кажется, вообще больше не на что надеяться, – вздохнула она. Смутилась, словно сказала лишнее, но тут же встряхнулась и деловито спросила: – Так ты поможешь мне забраться на дерево? Подсадишь?
Я открыл было рот, чтобы рассказать наконец свою историю и объявить, что там, на дереве, мой почтовый ящик, а в нем моя корреспонденция, но в последний момент передумал. Чего зря болтать. Пусть лезет, если так припекло, а там видно будет – чья это корреспонденция, если она там вообще есть, в чем я очень со… Да нет, вру. В тот момент я не испытывал никаких сомнений. Внутренний скептик уставился на меня, разинув рот, словно впервые увидел. И его можно понять.
Я, впрочем, и без его подсказки осознавал, что со мной творится неладное. Получить необъяснимое телефонное уведомление и из любопытства явиться по указанному адресу – это еще куда ни шло. Заинтересоваться обнаруженным в парке почтовым ящиком – совершенно нормально, а кто бы на моем месте не заинтересовался? Выслушать все, что рассказала мне первая встречная эксцентричная фрау – ладно, допустим; в конце концов, это был очередной экзамен по разговорному немецкому, который я сдал на твердую «пятерку», понял все, до единого слова. Но пялиться на облезлый почтовый ящик, как на святыню – это уже перебор. Думать: «Там очень важное послание, которое перевернет мою жизнь», – как минимум, глупость. А сказать себе: «Ладно, пусть сначала девочка посмотрит, ей, похоже, здорово приспичило», – это уже натуральное безумие. Потому что пока ты чего-то для себя хочешь, пусть даже чуда – все более-менее в порядке, желание вовсе не тождественно вере. Но когда ты готов что-то отдать, значит, полагаешь, будто оно у тебя есть. Это уже не слепая вера, а твердое знание. Верный признак безумия, если называть вещи своими именами.
И если продолжить называть вещи своими именами, придется признать: в тот момент я совершенно точно знал, что в почтовом ящике на дереве лежит послание, которого я ждал всю жизнь, сам не понимая, чего жду. И одновременно я знал, что если ящик откроет Биргит, окажется, что письмо адресовано ей, а я останусь не у дел, жалким очевидцем, которому, в случае чего, никто не поверит, так что и пробовать рассказать эту историю бессмысленно. Таковы правила игры, я их не придумал, они существуют сами по себе – и очень жаль, кстати, будь это мои фантазии, в них непременно нашлось бы место достойному компромиссу, мы с Биргит достали бы из этого чертова ящика, как минимум, два письма, а лучше – еще дюжину, для родных и близких, чтобы все были довольны.
Я, видимо слишком долго молчал, потому что Биргит почти шепотом повторила свой вопрос:
– Так ты мне поможешь?
Она была такая трогательная – стриженая, белобрысая женщина без возраста, похожая на мальчишку, в бесформенной одежде, с дурацким розовым рюкзаком. На лице запоздалое смущение, а в глазах – такая дикая смесь надежды и страха, что я предпочел не заглядывать глубже, не высматривать, что заставило ее цепляться за дурацкую городскую легенду, как за единственный шанс на спасение – от чего, от кого? Не хочу этого знать. Пусть лезет в ящик, пусть найдет там свое письмо. Ей, похоже, действительно очень надо.
– Конечно помогу, – улыбнулся я. – Если ты встанешь мне на плечи, скорее, всего, дотянешься.
– А ты выдержишь? – Забеспокоился Биргит. – Я сейчас такая толстая! Шестьдесят семь килограммов, – и, мучительно покраснев, поправилась: – Это две недели назад было шестьдесят семь, а теперь, наверное, уже все семьдесят…
– Какая ерунда, – мужественно сказал я. – Кстати, при твоем росте вполне нормальный вес, так что не выдумывай.
Как бы я ни храбрился, но природа, увы, создала меня не для переноски тяжестей, а с какой-то иной, до сих пор неведомой мне целью. Поэтому когда я присел на корточки, и Биргит вскарабкалась мне на плечи, я едва не завалился на бок. А когда осознал, что сейчас мне предстоит подняться с этим грузом, окончательно утратил надежду на успех нашего предприятия. Но все-таки начал понемногу выпрямляться, упирась руками в кленовый ствол. Биргит тоже держалась за дерево, старалась перенести на него часть своего веса, и вообще помогала мне, как могла. Думаю, у нас все получилось лишь потому, что ее вера в меня была несокрушима.
Когда Биргит крикнула: «Есть!» – я ушам своим не поверил, но присел, медленно и аккуратно, и только когда она, наконец, слезла, позволил себе расслабиться и тут же рухнул на траву, как мешок с навозом – при условии, что мешки с навозом способны испытывать облегчение и блаженство.
– Я тебе что-то повредила? – Испуганно спросила Биргит.
– Не выдумывай, – отмахнулся я, вытягиваясь в полный рост. – Мне хорошо. Так что, там было какое-то письмо?
– Было! Есть! Я взяла! – звенящим от счастья и ужаса голосом доложила Биргит. И шепотом добавила: – Оно мне! Тут мое имя. Мое имя! Только теперь открывать страшно.
– Мне бы тоже было страшно, – сказал я. – Но я бы все равно сразу открыл. Пока оно не передумало.
– Кто – «оно»? – Растерянно спросила Биргит.
– Письмо, конечно. Пока оно не передумало быть адресованным мне.
Слышал бы меня сейчас внутренний скептик.
Но на Биргит мои слова подействовали: она, наконец, вскрыла конверт, достала оттуда сложенный вчетверо бумажный листок, развернула, принялась читать. А я лежал на спине и смотрел снизу вверх, как меняется ее лицо. Как уходит напряжение, разглаживаются морщинки, а глаза начинают сиять. Преображение это было столь стремительным и великолепным, что я вдруг почувствовал себя лишним. Такие вещи должны происходить с человеком, когда он один, подумал я. Без свидетелей, без посторонних.
Я осторожно поднялся и, стараясь ступать беззвучно, пошел прочь. Напрасная предосторожность – Биргит сейчас, пожалуй, и на работающую газонокосилку не обратила бы внимания. Весь мир временно исчез для нее, и я вместе с ним. Оно и к лучшему.
Все к лучшему, абсолютно все, говорил я себе час спустя, сидя на скамейке в парке имени Шарля Третьего, куда, разумеется, не мог не пойти.