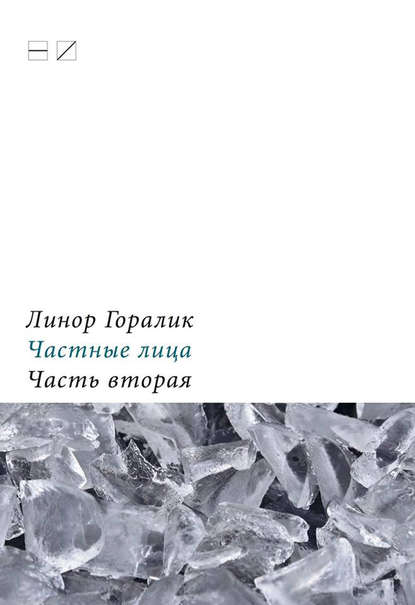По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Частные лица. Биографии поэтов, рассказанные ими самими. Часть вторая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
ГОРАЛИК. Как вы были устроены в этом возрасте? Вот семь-восемь-девять-десять лет.
РУБИНШТЕЙН. Устроен – в каком смысле?
ГОРАЛИК. Внутри себя. Что хотели? Что любили?
РУБИНШТЕЙН. Хотелось быть дома. Мне было дома хорошо в детстве, примерно до подростковых лет, когда я стал конфликтовать с родителями. Но это будет позже.
ГОРАЛИК. Что дома делать?
РУБИНШТЕЙН. Читать, конечно. Читать и фантазировать. Я все время в какие-то дикие игры играл. Я все время кем-то себя представлял. Например, каким-нибудь суперразбойником мирового масштаба, совершенно неуловимым.
Ну и друзья, футбол. Полный набор мальчиковых всех дел. Музыке вот не учили.
ГОРАЛИК. И на спорт не отдали?
РУБИНШТЕЙН. Нет, так, бегали по улицам. Это же все было за городом.
ГОРАЛИК. До третьего класса учиться было скучно – а дальше?
РУБИНШТЕЙН. Дальше – тоже. Скучно, неприятно и неинтересно. До какого-то года я был отличником, потом стал троечником.
Знаете, есть такой традиционный для многих сон? У вас, наверное, он тоже есть. Снится, что ты уже в своем возрасте, а вдруг выясняется, что ты должен сдать что-то, пересдать что-нибудь. Вот мне сейчас снится, я такой, как есть, почему-то должен написать контрольную, иначе мой диплом будет недействителен. Это страшно, я просыпаюсь с таким облегчением. В общем, школу даже и не хочу вспоминать.
ГОРАЛИК. Не будем. Давайте про тексты: писать вы начали в какой момент?
РУБИНШТЕЙН. Писать? В детстве мне нравилась профессия писателя, но нравилась она в виде внешних атрибутов.
ГОРАЛИК. Как она представлялась?
РУБИНШТЕЙН. Ну как представлялась? Человек сидит за столом с трубкой во рту. К нему никто не лезет, все в доме шепотом говорят: «Тише, Лева работает». А Лева, допустим, потягивается и говорит: «Мне сегодня что-то не пишется, пойду-ка я погуляю». А потом сам собой получается какой-нибудь толстый роман, а потом его все читают, хвалят, анализируют. Пытался и писать, но хватало меня не больше, чем на полстраницы, у меня много начал каких-то рассказов, абзаца по два.
А читал я много. Например, я очень любил научную фантастику. Один из любимых авторов – Александр Беляев.
ГОРАЛИК. Стойте – вы, значит, были тогда одним из немногих людей, читавших «Человека, потерявшего лицо»?
РУБИНШТЕЙН. Конечно. И не один раз я это читал. Он странный писатель был, вообще говоря. Какой-то не очень советский. У него всегда дело происходило где-то там.
ГОРАЛИК. Это вообще Голливуд. И какой страшный, надо сказать.
РУБИНШТЕЙН. Я, кстати, как-то однажды вылепил из пластилина голову профессора Доуэля, она у меня стояла на каком-то постаменте.
ГОРАЛИК. Я надеюсь, вы к ней подвели всякие провода?
РУБИНШТЕЙН. До того не дошло. Но я с этой головой как-то общался, эта голова мне какие-то полезные идеи подавала.
Ну, вот, читал, читал… Хотел быть писателем. Некоторое время хотел быть врачом, как дядя Боря. А он был довольно знаменитый врач. Гинеколог.
ГОРАЛИК. Врачом – тоже хотелось стать по внешним признакам?
РУБИНШТЕЙН. Ну, врач – это же еще и власть. Кстати, как и писатель. Кто-то тебе благодарен, кто-то от тебя зависит. А дядю Борю действительно вся Москва знала. Вот я у него иногда гостил, он в центре жил. И мы с ним иногда гуляли по Тверскому бульвару, а навстречу попадались тетки с колясками, которые говорили: «Борис Львович, это ваш».
Я до последнего момента не знал, кем хочу стать. Старшие классы мне вообще запомнились как довольно напряженные отношения с отцом. Ну, обычные подростковые дела…
Но еще и на идейной основе. Потому что мой старший брат был такой классический шестидесятник: с окуджавами, с магнитофонами и так далее.
А отец коммунист. Причем довольно упертый. Он, вообще-то, был абсолютно порядочный и честный человек, но при этом упертый и ограниченный, как мне казалось. В общем, мне и сейчас так кажется, но я сейчас стал добрее.
Но тогда мне казалось ужасным, что он верит в то, что написано в газете. Так он, видимо, понимал дисциплину. Он состоял в партии и был уверен, что он должен всему верить. Вот меня это дико раздражало.
А от брата я воспринимал всякую «вольность». Собственно говоря, брат мой мне, как ни странно, любовь к поэзии и привил, потому что в их поколении было принято и даже модно читать, слушать, знать стихи.
Если кто-то сам писал, то он вообще был героем в любой компании. Быть поэтом – это вообще было что-то невероятное. А поэтом считался любой, кто мог срифмовать что-то с чем-то.
Брат таскал книжки всякие, поэтические сборники, безо всякого разбору – мне все нравилось. Все-все.
Но начиная с Пастернака, которого я впервые прочитал в каком-то девятом или десятом классе, я вдруг понял, что есть поэзия и «поэзия». Нет, не так – что есть стихи и поэзия. Он был первым, кого я по-настоящему узнал как поэта. Именно Пастернак.
Брат для меня вообще был важен в мои подростковые годы, потому что родители были слишком уж меня старше, а он был взрослый, но молодой. То есть он был в каком-то смысле для меня из поколения родителей, но молодой и, так сказать, прогрессивный.
А писать сам я довольно поздно начал. Я любил читать стихи и даже ходил во Дворец пионеров в литературный кружок, где все писали, а я только слушал. Я себе не позволял писать, потому что писать плохо мне не хотелось, а хорошо не получалось.
И лишь где-то в середине третьего курса я вдруг стал писать стихи. Сразу такие очень экспрессионистские, такие напористые, довольно, надо сказать, бессмысленные. Нарочито «бессмысленные», такие, которые, как мне казалось, являются аналогом абстрактной живописи. К счастью, их мало сохранилось. Как автора, так сказать, нынешнего, я себя ощущаю примерно с 1974 года, когда мне уже было под тридцать.
ГОРАЛИК. Я немножко приторможу тут, иначе мы проскочим институт. Про выбор профессии давайте?
РУБИНШТЕЙН. Я просто твердо знал, что я не хочу быть инженером-строителем, как отец и брат. Вот просто не хочу, и все.
Я закончил школу. Пошел поступать в МГУ на филфак и не набрал то ли одного, то ли двух баллов. И мне кто-то сказал, что можно с этими оценками пойти в педагогический и что там, скорее всего, примут. Что я и сделал. И поступил я в пединститут на «русский язык и литературу». Учиться там было довольно легко, я почти там ни хрена не делал, просто приходил и сдавал экзамены.
Мне запомнился первый курс, на котором я еще как-то учился, был еще какой-то интерес. Я ненадолго увлекся фольклористикой и даже после первого курса съездил в экспедицию. А вот на третьем курсе я, как я уже говорил, начал бурно сочинять стихи и совсем учебу забросил.
И у меня почти сразу же появился круг пишущих людей, и мы все осознавали себя «поэтами».
ГОРАЛИК. То есть вы начали быть поэтом?
РУБИНШТЕЙН. Ага. А о том, чем и как зарабатывать, – это вообще было как-то отдельно, об этом никогда не думали. Кто как и кто чем.
Из всей нынешней художественно-литературной компании самый мой старый товарищ – Андрей Монастырский. С ним мы познакомились еще во Дворце пионеров. С какого-то примерно 1966 года мы знакомы.
ГОРАЛИК. Кто еще там был?
РУБИНШТЕЙН. Из ныне известных? По-моему, никого. Там были смогисты, но они были для нас вроде как старшие товарищи. Я знал Леню Губанова, Владимира Алейникова.
Они были старше вообще не намного, на пару лет всего. Но почему-то они казались мне людьми другого поколения. Может быть, потому что они стали известны чуть ли не в школьном возрасте. Они такие юные гении были, а я был запоздалый, и я на них смотрел как на старших.
ГОРАЛИК. Погодите, важно не упустить всю остальную жизнь, происходившую в институтские годы. Есть там про что рассказать? Про людей, про друзей, про семью?
РУБИНШТЕЙН. В институтские годы я в основном дружил с… Ну вот Андрей Монастырский был, было несколько художников, их имена сейчас ничего никому не скажут, они как-то быстро «соскочили».