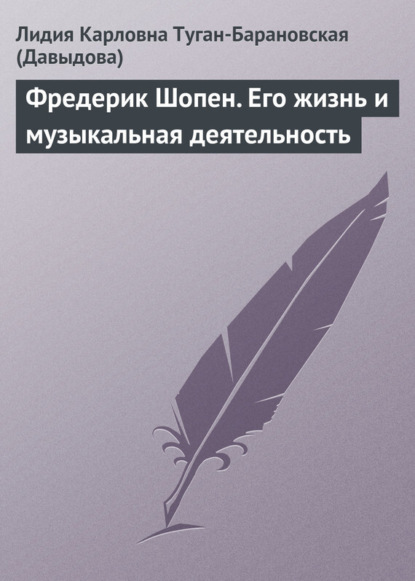По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Фредерик Шопен. Его жизнь и музыкальная деятельность
Жанр
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Жизнь Шопена в Варшаве. – Его душевное состояние. – Дружба с Титом Войцеховским. – Первая любовь Шопена. – Отъезд из Польши.
Вернувшись в Варшаву, Шопен опять зажил прежней жизнью, то есть играл, сочинял и много бывал в обществе.
Он жил в маленькой комнатке в верхнем этаже, в стороне от всех других. Там стоял его рояль и старый письменный стол, заваленный нотной бумагой. Впоследствии он часто вспоминал эту маленькую комнатку, где проводил столько хороших часов за работой или в обществе друзей, приходивших к нему поболтать и послушать его новые произведения. У него было много товарищей и друзей. Лист описывает Шопена сдержанным, замкнутым в себе человеком, который был мил и приветлив со всеми, но дружен не был ни с кем и никому не давал заглянуть в свою душу. Но Шопен не всегда был таким, каким знал его Лист. Этот загадочный, всегда проникнутый какой-то тихой грустью человек в свои молодые годы был живым, увлекающимся юношей и имел близких людей, с которыми был вполне откровенен. Дружба его носила даже восторженный, романтический характер. Приведем несколько отрывков из писем Шопена к его лучшему другу, Титу Войцеховскому, с которым он остался дружен в течение всей своей жизни. Если бы не знать, к кому относятся эти письма, можно было бы подумать, что это пишет страстно-влюбленный предмету своей любви:
Декабрь 1818 г.
"…Если я пишу сегодня так много глупостей, то делаю это, только чтобы напомнить тебе, что ты по-прежнему близок моему сердцу и что для тебя я все тот же Фридерик, каким был раньше».
Май 1830 г.
"…Ты не имеешь понятия о том, как я люблю тебя! Если бы я только как-нибудь мог доказать тебе это! Чего бы я ни дал, чтобы опять быть с тобой и хорошенечко расцеловать тебя!»
Сентябрь 1830 г.
"…Я не хотел бы путешествовать с тобой, потому что с особенным наслаждением думаю о том моменте, когда мы с тобой встретимся в дороге. Одна эта минута будет стоить тысячи однообразных дней, проведенных вместе в путешествии».
Апрель 1830 г.
«Когда я пишу что-нибудь, мне всегда ужасно хочется знать, как оно тебе понравится. Мой второй концерт не будет иметь для меня никакого значения до тех пор, пока ты его не услышишь и не одобришь».
Первая любовь Шопена имела такой же романтический, мечтательный характер, как его дружба. Предметом этой любви была одна молоденькая ученица Варшавской консерватории, Констанция Гладковская. Она была очень хороша собой и ее чистый, девический облик наполнял душу молодого артиста восторженным поклонением. В первый раз он упоминает о своей любви в одном письме к Войцеховскому (3 октября 1829 года). Он пишет ему:
"…Не думай, что я влюблен в m-lle Блахет (одна молодая пианистка, жившая в Вене). Я уже нашел – может быть, к моему несчастью – свой идеал, которому глубоко и благоговейно поклоняюсь. Уже шесть месяцев я влюблен в нее и до сих пор не сказал с ней ни единого слова, но вижу ее во сне каждую ночь. Думая о ней, я писал Adagio своего концерта, и сегодня утром она вдохновила меня для этого вальса, который я тебе посылаю».
Уже по этим строчкам видно, сколько романтизма было в первой любви Шопена: он в течение шести месяцев довольствовался молчаливым обожанием издалека и даже не пытался познакомиться с ней, хотя для него это было бы совсем не трудно, потому что она была ученицей Варшавской консерватории и Шопен был хорошо знаком с ее профессором пения. Через него он впоследствии с ней и познакомился. По-видимому, он не столько любил саму молодую девушку, сколько свою любовь к ней, те страдания, которые она ему доставила. Для него она была предлогом «для тайных дум, мучений и блаженства», которые были ему необходимы для творчества. Он любил ходить в ту церковь, где она обыкновенно бывала, и там смотрел на нее, пока она молилась. Часто потом он вспоминал об этих минутах.
Ни один из биографов Шопена ничего не сообщает о самой Констанции Гладковской. Что она была за личность – неизвестно. Известно только, что она была очень красива и что у нее был прекрасный голос. С любовью к ней в жизни Шопена начинается новый период: талантливый мальчик превращается в великого артиста и тоскующего поэта и пишет свой бессмертный концерт F-moll. (Op. 21)[3 - Этот концерт был написан в 1823 году, но напечатан только в 1836 году, после E-moll концерта, напечатанного в 1833 году. Поэтому, хотя он был написан раньше, он называется вторым]. Сам Шопен писал об Adagio этого концерта:
«Adagio» имеет романтический, спокойный, частью меланхолический характер. Оно должно производить такое впечатление, как будто видишь перед собой любимый пейзаж, вызывающий в душе дорогие воспоминания, как, например, в тихую, озаренную лунным светом, весеннюю ночь. Концерт F-moll – одно из лучших, наиболее поэтических сочинений Шопена. Лист говорит, что в нем есть места «поразительного величия» («d’une qrandeur surprenante»), a Шуман восклицает: «Что значат десять премированных сочинений по сравнению с одним таким Adagio!»
Настроение Шопена в этот период его жизни было самое переменчивое. Никаких сколько-нибудь основательных причин для мрачности у него не было: он был молод, привлекателен, талантлив, творчество доставляло ему величайшее наслаждение; все кругом любили его, он был влюблен и пользовался взаимностью – словом, все ему улыбалось. Но Шопен был слишком талантлив, у него была слишком тонкая, болезненно-впечатлительная нервная организация, чтобы быть вполне счастливым. Несмотря на все благоприятные внешние условия, у него бывали тяжелые минуты, когда он казался себе самым несчастным человеком на свете и впереди ему рисовались одни бесконечные страдания. И он не гнал от себя такое настроение; напротив того, он любил погружаться в него и испытывал при этом какое-то особенное, мучительное блаженство. Все это было необходимо для его творчества.
Что без страданий жизнь поэта
И что без бури океан?
Он пишет Войцеховскому: «Я кажусь веселым, особенно когда нахожусь среди людей, но внутри меня что-то грызет, тяжелые предчувствия, беспокойство, нехорошие сны, бессонница, тоска, равнодушие ко всему на свете… Потом опять является жажда жизни, хочется работать, стремиться к чему-то. Часто мне кажется, что дух мой замирает, я испытываю невыразимо-блаженную тишину в душе, передо мной проносятся картины, от которых я не могу оторваться, и это мучает меня безмерно. Вообще – смесь всевозможных чувств, трудно поддающихся описанию». Через некоторое время он опять пишет Войцеховскому: «О, как грустно не иметь никого, с кем бы можно было делить радости и горе! Как ужасно чувствовать свое сердце удрученным, когда некому излить своих жалоб! Как часто я рассказываю своему роялю то, что хотел бы рассказать тебе!.. Как я был рад, когда получил письмо от тебя! Твои письма всегда успокаивают меня, а сегодня мне это было нужнее, чем когда-либо. Я хотел бы прогнать от себя мысли, которые отравляют мою жизнь, и в то же время мне почему-то нравится погружаться в них… Как часто я обращаю ночь в день и день в ночь, живу во сне, и сплю днем, нет, не сплю, а мучаюсь, потому что и во сне я испытываю то же самое, и вместо того, чтобы освежать, эти сны только еще более изнуряют и томят меня».
Если судить по вышеприведенным отрывкам, то можно было бы думать, что жизнь Шопена была непрерывным рядом терзаний. А между тем это было совсем не так. Грустное настроение, которое временами овладевало душою Шопена, не мешало ему в другое время искренне веселиться, давать концерты и радоваться своим успехам, болтать всякий вздор и даже с увлечением танцевать мазурку. Нельзя не подивиться необыкновенной подвижности его настроения, когда читаешь, например, следующее письмо, написанное в том же самом году, что и те мрачные письма, выдержки из которых только что были приведены. Он пишет Войцеховскому:
"…Часто случается, что, когда человек хочет улучшить мнение других о себе, он только ухудшает его; но мне кажется, что касается наших с тобой отношений, я не могу ни улучшить, ни ухудшить твоего мнения обо мне. Любовь моя к тебе должна возбуждать и в твоем сердце такие же чувства ко мне. Если кто-нибудь вошел в мою душу, я не допущу, чтобы его от меня взяли, как деревья не отдают своего покрова из зеленых листьев, который придает им прелесть молодости. У меня всегда будет зелено, даже и зимой, то есть хочу сказать, в моей душе… Но – да поможет мне Бог! – в душе у меня величайший жар, поэтому не удивляйся, что получается такая роскошная растительность. Ну, довольно… твой навсегда… Я только теперь заметил, что наговорил кучу глупостей. Это потому, что я еще нахожусь под впечатлением вчерашнего вечера. Я чувствую себя усталым и сонным, оттого что слишком много танцевал мазурку… Твои письма я перевязываю ленточкой, которую мой идеал однажды дал мне. Я рад, что эти безжизненные предметы – письма и ленточка – так хорошо подходят друг к другу; очевидно, хотя они и не знают друг друга, они чувствуют, что пришли ко мне от двух самых дорогих для меня людей».
Трудно представить себе, чтобы это бессвязное, мальчишески веселое письмо было написано тем самым Шопеном, который в том же году писал свой концерт F-moll.
Уже через год после своего возвращения из Вены Шопен начал поговаривать об отъезде за границу. Он чувствовал себя не на своем месте в Варшаве, для развития его таланта ему необходимо было жить в каком-нибудь музыкальном центре. Родители Шопена тоже понимали это и из любви к сыну соглашались на разлуку с ним. Отъезд его принципиально был решен, но Шопен долгое время никак не мог собраться уехать. С марта 1830 года он постоянно пишет Войцеховскому, что уезжает на следующей неделе и в конце концов остается в Варшаве до 1 ноября 1830 года. Эти длинные проволочки, кроме свойственной Шопену нерешительности, объясняются и тем, что ему действительно было очень трудно расстаться с Варшавой. Несмотря на то, что он постоянно жаловался на нее и находил, что она не выдерживает никакого сравнения с Берлином и Веной, ему все-таки очень хорошо жилось здесь в кругу боготворившей его семьи и многочисленных друзей. Ему страшно было уехать из своего теплого гнездышка и поселиться где-нибудь в далеком, чужом городе. В Варшаве он считался одним из лучших виртуозов, публика очень любила его, и в концертах он всегда выступал с большим успехом.
Любовь к Констанции тоже была одной из причин, удерживающих Шопена в Варшаве. Сначала он непременно хотел дождаться ее дебюта в опере. Дебют прошел с большим успехом, и Шопен восторженно писал Войцеховскому, что со сцены она была прекраснее, чем когда-либо, что голос ее звучал восхитительно и игра не оставляла желать ничего лучшего. После этого дебюта влюбленность его еще возросла, и он опять стал откладывать свой отъезд, хотя сам сознавал, что медлить ему нечего. Все это приводило его в самое дурное расположение духа. Он пишет Войцеховскому: «Я говорю тебе, что с каждым днем делаюсь все более и более сумасшедшим. Я все еще сижу здесь и не могу решиться назначить окончательно день отъезда. У меня какое-то предчувствие, что я уезжаю из Варшавы, чтобы больше не вернуться сюда; я убежден, что навсегда прощаюсь с моим домом. О, как грустно, должно быть, умирать не в том месте, где родился! Как мне было бы тяжело вместо родных, дорогих мне лиц видеть около себя в предсмертный час равнодушного доктора и наемного лакея! Если бы ты знал, как мне иногда хочется прийти к тебе, чтобы успокоить свою удрученную душу! Но так как это невозможно, то я часто, сам не знаю зачем, иду бродить по улицам. Но и там тоска моя не утихает, и я опять возвращаюсь домой, чтобы снова начать томиться».
Предчувствия не обманули Шопена: он действительно навсегда прощался со свой родиной.
К внутренней нерешительности Шопена присоединились еще и внешние обстоятельства, затруднявшие его отъезд за границу. Дело было в 1830 году, и, вследствие политических неурядиц, наступивших после Июльской революции, поездка за границу была сопряжена с разными препятствиями: получить заграничный паспорт было нелегко.
Наконец Шопен собирается с духом и действительно решается уехать. Он пишет Войцеховскому: «Я твердо и бесповоротно решил уехать в субботу, через неделю; с нотами в чемодане, с некой ленточкой на груди и печалью в сердце – в таком виде я сяду в почтовую карету. Само собой разумеется, что по городу будут течь ручьи слез от Коперника до Фонтана и от банка до колонны Сигизмунда, но я буду холоден и бесчувствен, как камень».
Перед отъездом Шопен дал в Варшаве прощальный концерт, который был настоящим триумфом для молодого артиста. В нем принимала участие и Гладковская, и, по мнению Шопена, никогда она не пела так хорошо, как в тот раз. Необыкновенный успех концерта несколько смягчил для него горечь разлуки с родиной, семьей и любимой девушкой.
1 ноября 1830 года он уехал наконец из Варшавы и, сам того не зная, уехал с тем, чтобы никогда больше сюда не возвращаться. Проводы молодого артиста были очень горячие и сердечные. Эльснер и многие друзья проводили его до ближайшей деревни. Там их ждали ученики консерватории, которые пропели отъезжающему кантату, сочиненную для этого случая Эльснером. За устроенным тут же торжественным завтраком Шопену, от имени всех присутствующих, поднесли наполненный землей золотой бокал, который он должен был взять с собой на память о родине. Эльснер сказал ему напутственную речь, которую закончил следующими словами: «Никогда не забывайте своей родины, никогда не переставайте любить ее, где бы вы ни жили и ни странствовали. Помните Польшу, помните своих друзей, которые с гордостью считают вас своим соотечественником и ждут от вас великих дел и чьи молитвы и пожелания всюду будут сопровождать вас».
Будущее показало, насколько Шопен оправдал эти надежды, возлагаемые на него друзьями и соотечественниками.
Глава III
Жизнь Шопена в Вене. – Польское восстание и впечатление, произведенное им на Шопена. – Переезд в Париж. – Сближение с тамошними музыкантами. – Характеристика Шопена, сделанная Листом. – Прекращение карьеры виртуоза. – Отношение к женщинам.
По дороге в Вильну Шопен встретился с Войцеховским, и они вместе продолжали путь. Они проехали через Бреславль и на несколько дней остановились в Дрездене. Дрезден им очень понравился. У Шопена были рекомендательные письма к некоторым жившим там полякам, и он вскоре познакомился со всей польской колонией. Он весело описывает родителям музыкальный вечер у одного из дрезденских меценатов: «Когда я вошел в залу, то мне бросилось в глаза не сверкание бриллиантов, а более скромный блеск вязальных спиц, которые с невероятной быстротой двигались в руках у сидевших вокруг стола дам. Количество дам и вязальных спиц было так велико, что если бы эти дамы задумали сделать нападение на мужчин, то последним пришлось бы потерпеть постыдное поражение. Им не осталось бы другого выхода, как пустить в ход свои очки, превратив их в оружие. Очков и лысин на этом вечере тоже было достаточно».
Очень понравилась ему Дрезденская опера и в особенности знаменитая картинная галерея. Он говорил, что если бы жил здесь, то каждую неделю ходил бы в картинную галерею, «потому что там есть такие удивительные картины, глядя на которые кажется, что слышишь музыку».
Шопен так приятно проводил время в Дрездене, где у него вскоре образовался довольно обширный круг знакомств, что пробыл там дольше, чем предполагал, и приехал в Вену только в конце ноября. Здесь он рассчитывал дать несколько концертов и затем поехать месяца на два в Италию. Но обстоятельства сложились иначе. Успех его первых двух концертов несколько вскружил ему голову, и он воображал, что Вена встретит его с распростертыми объятиями. Но впереди его ждали горькие разочарования: впечатление, которое он произвел в первый свой приезд, оказалось не так сильно, как он этого ожидал, и с тех пор его успели совсем забыть. Ему предстояло еще создавать себе репутацию, а на это он был совершенно не способен. Шопен не был создан для борьбы; пробиваться вперед, делать себе карьеру, преодолевать препятствия – все это было совершенно не в его натуре. Малейшая неприятность раздражала его, малейшая неудача повергала в полнейшее уныние.
Первое время после своего приезда он был очень доволен Веной: шумная уличная жизнь и особенно хорошенькие венки чрезвычайно ему нравились. Но вскоре начались неприятности. Издатель его сочинений Газлингер, которому он привез еще две вещи, принял его очень любезно, но заявил, что новых вещей печатать не будет. Шопен пишет по этому поводу своим родным: «Газлингер, очевидно, думает, что если он будет так пренебрежительно относиться к моим сочинениям, то я буду ему благодарен уже за то, что он их напечатает, не платя мне за них денег. Но я решил, что больше ничего не буду делать даром. Отныне моим девизом будет: плати, животное!» Но этот решительный девиз не помог молодому артисту: «животное» ничего ему не заплатило и не напечатало его сочинений.
Это была первая неудача, постигшая Шопена в Вене. За ней последовали другие. Многих его прежних знакомых не было в городе, другие были больны, и все, так по крайней мере казалось Шопену, охладели к нему. Музыкальный сезон был в самом разгаре, в Вену наехала масса пианистов, и Шопен мало-помалу пришел к убеждению, что ему лучше на время оставить мысль о своем концерте.
В это время вспыхнуло польское восстание тридцатого года. Шопен был страшно потрясен этим событием. Войцеховский тотчас же уехал в Польшу. Шопен хотел ехать вместе с ним и тоже присоединиться к «повстанцам», но потом уступил просьбам родных, умолявших его остаться за границей и доказывавших ему, что при его слабом здоровье он бы не вынес военной службы. Шопен покорился и решил остаться; когда же Войцеховский уехал, его так потянуло на родину, что он взял почтовых лошадей и поехал вдогонку за своим другом; но не успел догнать его и должен быть вернуться обратно.
Тяжелое время настало для Шопена. Он был большой патриот, и мысль о том, что делается теперь в его родной стороне, не давала ему покоя; о концерте своем он не мог уже хлопотать; не до того ему было. Он пишет родителям: «С тех пор как я узнал об ужасных событиях, происходящих на родине, мысли мои исключительно заняты ею и беспокойством за вас, мои дорогие. Мальфати тщетно старается доказать мне, что артист должен быть космополитом. Если бы даже это было и так, то как артист я еще новорожденный ребенок, а как взрослый человек – я поляк, и поэтому вы, конечно, поймете, что я не могу теперь думать об устройстве своего концерта». Через некоторое время он пишет Войцеховскому: «Я мог бы умереть за вас! О, почему я должен оставаться здесь, одиноким и покинутым! Вы там по крайней мере можете делиться друг с другом своими чувствами и находить в этом удовлетворение. Воображаю, как твоя флейта теперь плачет! Но мое фортепьяно имеет еще более причин для рыданий!»
Он был в совершенной нерешительности относительно того, что ему теперь делать. В это трудное время свойственный ему недостаток энергии и инициативы выявился особенно резко. Он находился в самом беспомощном состоянии и решительно не знал, куда ему ехать и как ему быть: «Должен ли я ехать в Париж? Должен ли я вернуться домой? Должен ли я остаться в Вене? Должен ли я убить себя?» – пишет он Матушинскому, который после Войцеховского был его самым близким другом.
Из всех этих представлявшихся ему путей Шопен выбрал самый легкий – остался в Вене. У него вскоре завелось очень много знакомых, особенно среди поляков; он часто бывал в обществе, надеясь там рассеяться и заглушить гнетущую его тоску по родине. Светская жизнь отнимала у него так много времени, что он совсем не успевал заниматься и за все восемь месяцев, проведенных в Вене, не написал почти ничего, кроме нескольких безделушек. Но светские развлечения не могли заставить его забыть о том, что происходило на родине. Он пишет Матушинскому: «Бесчисленное множество обедов, вечеров, концертов и балов, где я должен бывать, только раздражает меня. Мне ужасно грустно, и я чувствую себя таким одиноким и несчастным! Я не могу жить так, как мне бы хотелось. Я должен одеваться и с веселым видом появляться в салонах. Когда же я возвращаюсь к себе, я сажусь за фортепьяно, которое здесь, в Вене, является моим лучшим другом, и открываю ему все свои страдания. У меня нет никого, с кем я мог бы быть откровенным, и все-таки я должен приветствовать всех как друзей».
Любовь его к Констанции очень усилилась от разлуки. Расстояние, которое разделяло их, делало ее еще более привлекательной в его глазах. Письма его к Матушинскому, бывшему посредником между ними, полны самой нежной заботы и любви к ней. Он очень беспокоится о ее здоровье, говорит, что ему до боли хочется ее видеть, что он не знает, как будет жить без нее. Всегда несколько склонный к меланхолии, Шопен теперь, под влиянием всех гнетущих его обстоятельств, все более и более поддается мрачному настроению. Следующий отрывок из его письма к Матушинскому лучше всего характеризует состояние его духа: "…Вчера я обедал у г-жи Бейер, которую тоже зовут Констанцией. Я люблю бывать у нее уже потому, что она называется этим бесконечно дорогим для меня именем; я всегда бываю счастлив, когда мне попадается в руки ее салфетка или носовой платок, на котором написано «Констанция». Вчера, то есть в сочельник, мы со Славиком провели у нее весь вечер. Когда ночью ушел от нее и простился со Славиком, я пошел совсем один, тихими шагами, к церкви Св. Стефана. В воздухе было так тепло, как бывает весной. Церковь была еще совсем пуста. Я встал в темный угол и весь отдался созерцанию этого величественного здания. Словами передать красоту и величие этого свода невозможно. Вокруг меня царствовала глубочайшая тишина, которая была прервана громко раздававшимися шагами сторожа, пришедшего зажечь свечи. За мной и предо мной были могилы, только надо мной их не было. В эти минуты я живее чем когда-либо чувствовал свое одиночество и сиротливость».
Читая эти строки, невольно вспоминаешь поэтичные, дышащие какой-то тихой грустью ноктюрны и прелюдии Шопена: вероятно, они возникали в его душе, когда он находился в том настроении, которое запечатлено в вышеприведенном отрывке.
В конце концов Шопен решился-таки дать свой концерт, но концерт этот был очень неудачен. Музыкальный сезон уже кончился, и многие уехали на лето из Вены. К тому же, вследствие польского восстания, обитатели Вены не были склонны особенно восторгаться молодым польским артистом. Народу собралось немного, и Шопен даже не покрыл издержек. Это было ему очень неприятно, потому что деньги, взятые из дому, подходили к концу и он должен был просить отца выслать ему еще денег. Деликатному, самолюбивому до щепетильности Шопену было тяжело сознавать, что в двадцать два года он все еще живет на средства отца, который и без того истратил так много денег на его музыкальное образование. Но в то время ему было очень трудно заработать деньги.
Из Вены он сделал экскурсию в Мюнхен и Штутгардт и там с большим успехом играл в концертах. В Штутгардте он получил известие о печальном исходе польского восстания и, мучимый тоской по родине, там же написал свой знаменитый этюд C-moll.
После неудачного концерта ему совсем уже нечего было больше делать в Вене, но, по свойственной ему нерешительности, он все-таки пробыл там еще некоторое время. Наконец он решился уехать и достал себе паспорт в Англию, проездом через Париж (A Londres passant par Paris). Впоследствии, когда он окончательно поселился в Париже, он часто говорил смеясь: «Я здесь только проездом».
Приехав в Париж, Шопен первое время был совершенно опьянен кипевшей там шумной уличной жизнью. В это время обычная шумная жизнь Парижа имела еще более напряженный, лихорадочный характер: прошел только год со времени воцарения Луи Филиппа, и народ еще не мог прийти в себя после Июльской революции; все было неспокойно и малейшего повода было достаточно, чтобы вызвать уличные беспорядки, грозившие принять серьезные размеры. Общественные и политические вопросы так волновали всех, что даже Шопен, обыкновенно столь равнодушный к политике, был несколько увлечен общим течением. Он пишет Войцеховскому о разных политических новостях и подробно описывает ему уличную манифестацию по случаю приезда в Париж польского генерала Раморино. Живя в пятом этаже на бульваре Poissonni?re, против квартиры генерала Раморино, он имел возможность из окна наблюдать за собравшейся толпой, и это зрелище произвело на него потрясающее впечатление. Особенно подействовали на него «грубые голоса и крики» столпившегося народа. Шопен, со своим нерешительным, мягким характером, не выносившим даже самых незначительных неловкостей и шероховатостей в обращении, со своей чуткостью ко всему изящному и утонченному и болезненным отвращением к резким, ярким краскам, Шопен, с детства вращавшийся в аристократических салонах, не мог, конечно, сочувствовать демократическому движению. Величие народных восстаний и поэзия борьбы не увлекали его, а возбуждали в нем только ужас. Он слишком был поглощен своей внутренней жизнью и по самому складу своей натуры, по своему артистическому темпераменту оставался чужд идеям, волновавшим его современников: он был слишком большим «эстетиком», чтобы победить в себе предубеждение против неэстетичности проявления этих новых идей. В этом отношении он является прямой противоположностью другого великого артиста, жившего в одно время с ним и бывшего его большим другом – знаменитого Ференца Листа. Энергичный, мужественный, Лист был большим демократом и в молодости даже увлекался сен-симонизмом.
В литературе и в искусстве вообще в то время тоже кипела оживленная борьба. Тридцатые годы во Франции были эпохой расцвета романтизма, когда в литературе творили Виктор Гюго, Жорж Санд, Дюма, Альфред де Мюссе, Готье; в живописи – Делакруа, Анри Шиффер, Орас Берне, Деларош; в музыке – Берлиоз. Но в искусстве, как в политике, Шопен стоял в стороне от идейного движения. Характерно, что, будучи одним из типичнейших представителей романтизма, будучи романтиком по натуре и романтиком во всех своих произведениях, он в то же время в теории не признавал романтизма. Он не любил Берлиоза, находил его сочинения слишком дикими и необузданными и выше всех композиторов ставил Моцарта, сочинения которого своим ясным, классическим стилем являли прямую противоположность его собственным сочинениям. Разговаривая однажды со своим учеником Гутманом о Берлиозе, Шопен сделал пером несколько чернильных пятен на бумаге, потом сложил ее пополам и сказал: «Вот таким образом Берлиоз пишет свои произведения. Он брызгает чернила на нотную бумагу, и в результате получаются случайные соединения нот».
Рекомендательных писем в Париж у Шопена было немного, большая часть из них относилась к музыкальным издателям, но тем не менее он вскоре познакомился со всеми наиболее выдающимися представителями парижского музыкального мира. Он часто бывал у Керубини, у которого собирались многие музыкальные звезды, как, например, Лист, Мошелес, Обер, Россини, Мейербер, Мендельсон, Гиллер и другие. Шопен вскоре освоился с этим кругом и сделался там своим человеком.
Самым замечательным пианистом того времени был Калькбреннер. Теперь он уже почти забыт, но тогда одно имя его наполняло благоговением сердца молодых музыкантов. Несколько освоившись в Париже, Шопен отправился к нему, намереваясь поступить в ученики. Но этот план не удался, потому что Калькбреннер брался быть его учителем только с тем условием, чтобы Шопен обязался учиться у него три года, на что Шопен не согласился, полагая, что три года учения будет для него слишком много. Но с Калькбреннером у них сохранились хорошие отношения, и последний вскоре сам признал, что Шопен не нуждался в его трехгодичном курсе. Калькбреннеру Шопен посвятил свой второй концерт. Вот что пишет Шопен своему учителю Эльснеру по поводу этого инцидента с Калькбреннером: «Трех лет учения для меня слишком много. Я, конечно, стал бы учиться и более трех лет, если бы думал, что этим достигну той цели, которая стоит передо мной. Но для меня ясно, что я никогда не сделаюсь копией Калькбреннера: ему не удастся сломить мое может быть и дерзкое, но высокое и твердое решение – открыть новую эру в музыке. Если я теперь продолжаю работать над своей фортепьянной игрой, то только для того, чтобы быть в состоянии потом стоять на своих ногах. Когда Рис был уже известен как пианист, ему нетрудно было пожинать лавры своей оперой „Невеста разбойника“. И как долго Шпор был уже известен как скрипач, прежде чем он написал „Фауста“ и другие свои знаменитые вещи. Надеюсь, что вы не откажете мне в своем благословении, узнав, на каком основании и с каким намерением я отказался от уроков Калькбреннера». Это письмо очень любопытно: в нем Шопен является не мечтательным, поэтичным юношей, а человеком, поставившим себе известные задачи и решившимся осуществить их. Но во всех сохранившихся письмах это единственное такое место. Потом он, по-видимому, не заботился больше о том, чтобы открывать новую эру в музыке.
Вернувшись в Варшаву, Шопен опять зажил прежней жизнью, то есть играл, сочинял и много бывал в обществе.
Он жил в маленькой комнатке в верхнем этаже, в стороне от всех других. Там стоял его рояль и старый письменный стол, заваленный нотной бумагой. Впоследствии он часто вспоминал эту маленькую комнатку, где проводил столько хороших часов за работой или в обществе друзей, приходивших к нему поболтать и послушать его новые произведения. У него было много товарищей и друзей. Лист описывает Шопена сдержанным, замкнутым в себе человеком, который был мил и приветлив со всеми, но дружен не был ни с кем и никому не давал заглянуть в свою душу. Но Шопен не всегда был таким, каким знал его Лист. Этот загадочный, всегда проникнутый какой-то тихой грустью человек в свои молодые годы был живым, увлекающимся юношей и имел близких людей, с которыми был вполне откровенен. Дружба его носила даже восторженный, романтический характер. Приведем несколько отрывков из писем Шопена к его лучшему другу, Титу Войцеховскому, с которым он остался дружен в течение всей своей жизни. Если бы не знать, к кому относятся эти письма, можно было бы подумать, что это пишет страстно-влюбленный предмету своей любви:
Декабрь 1818 г.
"…Если я пишу сегодня так много глупостей, то делаю это, только чтобы напомнить тебе, что ты по-прежнему близок моему сердцу и что для тебя я все тот же Фридерик, каким был раньше».
Май 1830 г.
"…Ты не имеешь понятия о том, как я люблю тебя! Если бы я только как-нибудь мог доказать тебе это! Чего бы я ни дал, чтобы опять быть с тобой и хорошенечко расцеловать тебя!»
Сентябрь 1830 г.
"…Я не хотел бы путешествовать с тобой, потому что с особенным наслаждением думаю о том моменте, когда мы с тобой встретимся в дороге. Одна эта минута будет стоить тысячи однообразных дней, проведенных вместе в путешествии».
Апрель 1830 г.
«Когда я пишу что-нибудь, мне всегда ужасно хочется знать, как оно тебе понравится. Мой второй концерт не будет иметь для меня никакого значения до тех пор, пока ты его не услышишь и не одобришь».
Первая любовь Шопена имела такой же романтический, мечтательный характер, как его дружба. Предметом этой любви была одна молоденькая ученица Варшавской консерватории, Констанция Гладковская. Она была очень хороша собой и ее чистый, девический облик наполнял душу молодого артиста восторженным поклонением. В первый раз он упоминает о своей любви в одном письме к Войцеховскому (3 октября 1829 года). Он пишет ему:
"…Не думай, что я влюблен в m-lle Блахет (одна молодая пианистка, жившая в Вене). Я уже нашел – может быть, к моему несчастью – свой идеал, которому глубоко и благоговейно поклоняюсь. Уже шесть месяцев я влюблен в нее и до сих пор не сказал с ней ни единого слова, но вижу ее во сне каждую ночь. Думая о ней, я писал Adagio своего концерта, и сегодня утром она вдохновила меня для этого вальса, который я тебе посылаю».
Уже по этим строчкам видно, сколько романтизма было в первой любви Шопена: он в течение шести месяцев довольствовался молчаливым обожанием издалека и даже не пытался познакомиться с ней, хотя для него это было бы совсем не трудно, потому что она была ученицей Варшавской консерватории и Шопен был хорошо знаком с ее профессором пения. Через него он впоследствии с ней и познакомился. По-видимому, он не столько любил саму молодую девушку, сколько свою любовь к ней, те страдания, которые она ему доставила. Для него она была предлогом «для тайных дум, мучений и блаженства», которые были ему необходимы для творчества. Он любил ходить в ту церковь, где она обыкновенно бывала, и там смотрел на нее, пока она молилась. Часто потом он вспоминал об этих минутах.
Ни один из биографов Шопена ничего не сообщает о самой Констанции Гладковской. Что она была за личность – неизвестно. Известно только, что она была очень красива и что у нее был прекрасный голос. С любовью к ней в жизни Шопена начинается новый период: талантливый мальчик превращается в великого артиста и тоскующего поэта и пишет свой бессмертный концерт F-moll. (Op. 21)[3 - Этот концерт был написан в 1823 году, но напечатан только в 1836 году, после E-moll концерта, напечатанного в 1833 году. Поэтому, хотя он был написан раньше, он называется вторым]. Сам Шопен писал об Adagio этого концерта:
«Adagio» имеет романтический, спокойный, частью меланхолический характер. Оно должно производить такое впечатление, как будто видишь перед собой любимый пейзаж, вызывающий в душе дорогие воспоминания, как, например, в тихую, озаренную лунным светом, весеннюю ночь. Концерт F-moll – одно из лучших, наиболее поэтических сочинений Шопена. Лист говорит, что в нем есть места «поразительного величия» («d’une qrandeur surprenante»), a Шуман восклицает: «Что значат десять премированных сочинений по сравнению с одним таким Adagio!»
Настроение Шопена в этот период его жизни было самое переменчивое. Никаких сколько-нибудь основательных причин для мрачности у него не было: он был молод, привлекателен, талантлив, творчество доставляло ему величайшее наслаждение; все кругом любили его, он был влюблен и пользовался взаимностью – словом, все ему улыбалось. Но Шопен был слишком талантлив, у него была слишком тонкая, болезненно-впечатлительная нервная организация, чтобы быть вполне счастливым. Несмотря на все благоприятные внешние условия, у него бывали тяжелые минуты, когда он казался себе самым несчастным человеком на свете и впереди ему рисовались одни бесконечные страдания. И он не гнал от себя такое настроение; напротив того, он любил погружаться в него и испытывал при этом какое-то особенное, мучительное блаженство. Все это было необходимо для его творчества.
Что без страданий жизнь поэта
И что без бури океан?
Он пишет Войцеховскому: «Я кажусь веселым, особенно когда нахожусь среди людей, но внутри меня что-то грызет, тяжелые предчувствия, беспокойство, нехорошие сны, бессонница, тоска, равнодушие ко всему на свете… Потом опять является жажда жизни, хочется работать, стремиться к чему-то. Часто мне кажется, что дух мой замирает, я испытываю невыразимо-блаженную тишину в душе, передо мной проносятся картины, от которых я не могу оторваться, и это мучает меня безмерно. Вообще – смесь всевозможных чувств, трудно поддающихся описанию». Через некоторое время он опять пишет Войцеховскому: «О, как грустно не иметь никого, с кем бы можно было делить радости и горе! Как ужасно чувствовать свое сердце удрученным, когда некому излить своих жалоб! Как часто я рассказываю своему роялю то, что хотел бы рассказать тебе!.. Как я был рад, когда получил письмо от тебя! Твои письма всегда успокаивают меня, а сегодня мне это было нужнее, чем когда-либо. Я хотел бы прогнать от себя мысли, которые отравляют мою жизнь, и в то же время мне почему-то нравится погружаться в них… Как часто я обращаю ночь в день и день в ночь, живу во сне, и сплю днем, нет, не сплю, а мучаюсь, потому что и во сне я испытываю то же самое, и вместо того, чтобы освежать, эти сны только еще более изнуряют и томят меня».
Если судить по вышеприведенным отрывкам, то можно было бы думать, что жизнь Шопена была непрерывным рядом терзаний. А между тем это было совсем не так. Грустное настроение, которое временами овладевало душою Шопена, не мешало ему в другое время искренне веселиться, давать концерты и радоваться своим успехам, болтать всякий вздор и даже с увлечением танцевать мазурку. Нельзя не подивиться необыкновенной подвижности его настроения, когда читаешь, например, следующее письмо, написанное в том же самом году, что и те мрачные письма, выдержки из которых только что были приведены. Он пишет Войцеховскому:
"…Часто случается, что, когда человек хочет улучшить мнение других о себе, он только ухудшает его; но мне кажется, что касается наших с тобой отношений, я не могу ни улучшить, ни ухудшить твоего мнения обо мне. Любовь моя к тебе должна возбуждать и в твоем сердце такие же чувства ко мне. Если кто-нибудь вошел в мою душу, я не допущу, чтобы его от меня взяли, как деревья не отдают своего покрова из зеленых листьев, который придает им прелесть молодости. У меня всегда будет зелено, даже и зимой, то есть хочу сказать, в моей душе… Но – да поможет мне Бог! – в душе у меня величайший жар, поэтому не удивляйся, что получается такая роскошная растительность. Ну, довольно… твой навсегда… Я только теперь заметил, что наговорил кучу глупостей. Это потому, что я еще нахожусь под впечатлением вчерашнего вечера. Я чувствую себя усталым и сонным, оттого что слишком много танцевал мазурку… Твои письма я перевязываю ленточкой, которую мой идеал однажды дал мне. Я рад, что эти безжизненные предметы – письма и ленточка – так хорошо подходят друг к другу; очевидно, хотя они и не знают друг друга, они чувствуют, что пришли ко мне от двух самых дорогих для меня людей».
Трудно представить себе, чтобы это бессвязное, мальчишески веселое письмо было написано тем самым Шопеном, который в том же году писал свой концерт F-moll.
Уже через год после своего возвращения из Вены Шопен начал поговаривать об отъезде за границу. Он чувствовал себя не на своем месте в Варшаве, для развития его таланта ему необходимо было жить в каком-нибудь музыкальном центре. Родители Шопена тоже понимали это и из любви к сыну соглашались на разлуку с ним. Отъезд его принципиально был решен, но Шопен долгое время никак не мог собраться уехать. С марта 1830 года он постоянно пишет Войцеховскому, что уезжает на следующей неделе и в конце концов остается в Варшаве до 1 ноября 1830 года. Эти длинные проволочки, кроме свойственной Шопену нерешительности, объясняются и тем, что ему действительно было очень трудно расстаться с Варшавой. Несмотря на то, что он постоянно жаловался на нее и находил, что она не выдерживает никакого сравнения с Берлином и Веной, ему все-таки очень хорошо жилось здесь в кругу боготворившей его семьи и многочисленных друзей. Ему страшно было уехать из своего теплого гнездышка и поселиться где-нибудь в далеком, чужом городе. В Варшаве он считался одним из лучших виртуозов, публика очень любила его, и в концертах он всегда выступал с большим успехом.
Любовь к Констанции тоже была одной из причин, удерживающих Шопена в Варшаве. Сначала он непременно хотел дождаться ее дебюта в опере. Дебют прошел с большим успехом, и Шопен восторженно писал Войцеховскому, что со сцены она была прекраснее, чем когда-либо, что голос ее звучал восхитительно и игра не оставляла желать ничего лучшего. После этого дебюта влюбленность его еще возросла, и он опять стал откладывать свой отъезд, хотя сам сознавал, что медлить ему нечего. Все это приводило его в самое дурное расположение духа. Он пишет Войцеховскому: «Я говорю тебе, что с каждым днем делаюсь все более и более сумасшедшим. Я все еще сижу здесь и не могу решиться назначить окончательно день отъезда. У меня какое-то предчувствие, что я уезжаю из Варшавы, чтобы больше не вернуться сюда; я убежден, что навсегда прощаюсь с моим домом. О, как грустно, должно быть, умирать не в том месте, где родился! Как мне было бы тяжело вместо родных, дорогих мне лиц видеть около себя в предсмертный час равнодушного доктора и наемного лакея! Если бы ты знал, как мне иногда хочется прийти к тебе, чтобы успокоить свою удрученную душу! Но так как это невозможно, то я часто, сам не знаю зачем, иду бродить по улицам. Но и там тоска моя не утихает, и я опять возвращаюсь домой, чтобы снова начать томиться».
Предчувствия не обманули Шопена: он действительно навсегда прощался со свой родиной.
К внутренней нерешительности Шопена присоединились еще и внешние обстоятельства, затруднявшие его отъезд за границу. Дело было в 1830 году, и, вследствие политических неурядиц, наступивших после Июльской революции, поездка за границу была сопряжена с разными препятствиями: получить заграничный паспорт было нелегко.
Наконец Шопен собирается с духом и действительно решается уехать. Он пишет Войцеховскому: «Я твердо и бесповоротно решил уехать в субботу, через неделю; с нотами в чемодане, с некой ленточкой на груди и печалью в сердце – в таком виде я сяду в почтовую карету. Само собой разумеется, что по городу будут течь ручьи слез от Коперника до Фонтана и от банка до колонны Сигизмунда, но я буду холоден и бесчувствен, как камень».
Перед отъездом Шопен дал в Варшаве прощальный концерт, который был настоящим триумфом для молодого артиста. В нем принимала участие и Гладковская, и, по мнению Шопена, никогда она не пела так хорошо, как в тот раз. Необыкновенный успех концерта несколько смягчил для него горечь разлуки с родиной, семьей и любимой девушкой.
1 ноября 1830 года он уехал наконец из Варшавы и, сам того не зная, уехал с тем, чтобы никогда больше сюда не возвращаться. Проводы молодого артиста были очень горячие и сердечные. Эльснер и многие друзья проводили его до ближайшей деревни. Там их ждали ученики консерватории, которые пропели отъезжающему кантату, сочиненную для этого случая Эльснером. За устроенным тут же торжественным завтраком Шопену, от имени всех присутствующих, поднесли наполненный землей золотой бокал, который он должен был взять с собой на память о родине. Эльснер сказал ему напутственную речь, которую закончил следующими словами: «Никогда не забывайте своей родины, никогда не переставайте любить ее, где бы вы ни жили и ни странствовали. Помните Польшу, помните своих друзей, которые с гордостью считают вас своим соотечественником и ждут от вас великих дел и чьи молитвы и пожелания всюду будут сопровождать вас».
Будущее показало, насколько Шопен оправдал эти надежды, возлагаемые на него друзьями и соотечественниками.
Глава III
Жизнь Шопена в Вене. – Польское восстание и впечатление, произведенное им на Шопена. – Переезд в Париж. – Сближение с тамошними музыкантами. – Характеристика Шопена, сделанная Листом. – Прекращение карьеры виртуоза. – Отношение к женщинам.
По дороге в Вильну Шопен встретился с Войцеховским, и они вместе продолжали путь. Они проехали через Бреславль и на несколько дней остановились в Дрездене. Дрезден им очень понравился. У Шопена были рекомендательные письма к некоторым жившим там полякам, и он вскоре познакомился со всей польской колонией. Он весело описывает родителям музыкальный вечер у одного из дрезденских меценатов: «Когда я вошел в залу, то мне бросилось в глаза не сверкание бриллиантов, а более скромный блеск вязальных спиц, которые с невероятной быстротой двигались в руках у сидевших вокруг стола дам. Количество дам и вязальных спиц было так велико, что если бы эти дамы задумали сделать нападение на мужчин, то последним пришлось бы потерпеть постыдное поражение. Им не осталось бы другого выхода, как пустить в ход свои очки, превратив их в оружие. Очков и лысин на этом вечере тоже было достаточно».
Очень понравилась ему Дрезденская опера и в особенности знаменитая картинная галерея. Он говорил, что если бы жил здесь, то каждую неделю ходил бы в картинную галерею, «потому что там есть такие удивительные картины, глядя на которые кажется, что слышишь музыку».
Шопен так приятно проводил время в Дрездене, где у него вскоре образовался довольно обширный круг знакомств, что пробыл там дольше, чем предполагал, и приехал в Вену только в конце ноября. Здесь он рассчитывал дать несколько концертов и затем поехать месяца на два в Италию. Но обстоятельства сложились иначе. Успех его первых двух концертов несколько вскружил ему голову, и он воображал, что Вена встретит его с распростертыми объятиями. Но впереди его ждали горькие разочарования: впечатление, которое он произвел в первый свой приезд, оказалось не так сильно, как он этого ожидал, и с тех пор его успели совсем забыть. Ему предстояло еще создавать себе репутацию, а на это он был совершенно не способен. Шопен не был создан для борьбы; пробиваться вперед, делать себе карьеру, преодолевать препятствия – все это было совершенно не в его натуре. Малейшая неприятность раздражала его, малейшая неудача повергала в полнейшее уныние.
Первое время после своего приезда он был очень доволен Веной: шумная уличная жизнь и особенно хорошенькие венки чрезвычайно ему нравились. Но вскоре начались неприятности. Издатель его сочинений Газлингер, которому он привез еще две вещи, принял его очень любезно, но заявил, что новых вещей печатать не будет. Шопен пишет по этому поводу своим родным: «Газлингер, очевидно, думает, что если он будет так пренебрежительно относиться к моим сочинениям, то я буду ему благодарен уже за то, что он их напечатает, не платя мне за них денег. Но я решил, что больше ничего не буду делать даром. Отныне моим девизом будет: плати, животное!» Но этот решительный девиз не помог молодому артисту: «животное» ничего ему не заплатило и не напечатало его сочинений.
Это была первая неудача, постигшая Шопена в Вене. За ней последовали другие. Многих его прежних знакомых не было в городе, другие были больны, и все, так по крайней мере казалось Шопену, охладели к нему. Музыкальный сезон был в самом разгаре, в Вену наехала масса пианистов, и Шопен мало-помалу пришел к убеждению, что ему лучше на время оставить мысль о своем концерте.
В это время вспыхнуло польское восстание тридцатого года. Шопен был страшно потрясен этим событием. Войцеховский тотчас же уехал в Польшу. Шопен хотел ехать вместе с ним и тоже присоединиться к «повстанцам», но потом уступил просьбам родных, умолявших его остаться за границей и доказывавших ему, что при его слабом здоровье он бы не вынес военной службы. Шопен покорился и решил остаться; когда же Войцеховский уехал, его так потянуло на родину, что он взял почтовых лошадей и поехал вдогонку за своим другом; но не успел догнать его и должен быть вернуться обратно.
Тяжелое время настало для Шопена. Он был большой патриот, и мысль о том, что делается теперь в его родной стороне, не давала ему покоя; о концерте своем он не мог уже хлопотать; не до того ему было. Он пишет родителям: «С тех пор как я узнал об ужасных событиях, происходящих на родине, мысли мои исключительно заняты ею и беспокойством за вас, мои дорогие. Мальфати тщетно старается доказать мне, что артист должен быть космополитом. Если бы даже это было и так, то как артист я еще новорожденный ребенок, а как взрослый человек – я поляк, и поэтому вы, конечно, поймете, что я не могу теперь думать об устройстве своего концерта». Через некоторое время он пишет Войцеховскому: «Я мог бы умереть за вас! О, почему я должен оставаться здесь, одиноким и покинутым! Вы там по крайней мере можете делиться друг с другом своими чувствами и находить в этом удовлетворение. Воображаю, как твоя флейта теперь плачет! Но мое фортепьяно имеет еще более причин для рыданий!»
Он был в совершенной нерешительности относительно того, что ему теперь делать. В это трудное время свойственный ему недостаток энергии и инициативы выявился особенно резко. Он находился в самом беспомощном состоянии и решительно не знал, куда ему ехать и как ему быть: «Должен ли я ехать в Париж? Должен ли я вернуться домой? Должен ли я остаться в Вене? Должен ли я убить себя?» – пишет он Матушинскому, который после Войцеховского был его самым близким другом.
Из всех этих представлявшихся ему путей Шопен выбрал самый легкий – остался в Вене. У него вскоре завелось очень много знакомых, особенно среди поляков; он часто бывал в обществе, надеясь там рассеяться и заглушить гнетущую его тоску по родине. Светская жизнь отнимала у него так много времени, что он совсем не успевал заниматься и за все восемь месяцев, проведенных в Вене, не написал почти ничего, кроме нескольких безделушек. Но светские развлечения не могли заставить его забыть о том, что происходило на родине. Он пишет Матушинскому: «Бесчисленное множество обедов, вечеров, концертов и балов, где я должен бывать, только раздражает меня. Мне ужасно грустно, и я чувствую себя таким одиноким и несчастным! Я не могу жить так, как мне бы хотелось. Я должен одеваться и с веселым видом появляться в салонах. Когда же я возвращаюсь к себе, я сажусь за фортепьяно, которое здесь, в Вене, является моим лучшим другом, и открываю ему все свои страдания. У меня нет никого, с кем я мог бы быть откровенным, и все-таки я должен приветствовать всех как друзей».
Любовь его к Констанции очень усилилась от разлуки. Расстояние, которое разделяло их, делало ее еще более привлекательной в его глазах. Письма его к Матушинскому, бывшему посредником между ними, полны самой нежной заботы и любви к ней. Он очень беспокоится о ее здоровье, говорит, что ему до боли хочется ее видеть, что он не знает, как будет жить без нее. Всегда несколько склонный к меланхолии, Шопен теперь, под влиянием всех гнетущих его обстоятельств, все более и более поддается мрачному настроению. Следующий отрывок из его письма к Матушинскому лучше всего характеризует состояние его духа: "…Вчера я обедал у г-жи Бейер, которую тоже зовут Констанцией. Я люблю бывать у нее уже потому, что она называется этим бесконечно дорогим для меня именем; я всегда бываю счастлив, когда мне попадается в руки ее салфетка или носовой платок, на котором написано «Констанция». Вчера, то есть в сочельник, мы со Славиком провели у нее весь вечер. Когда ночью ушел от нее и простился со Славиком, я пошел совсем один, тихими шагами, к церкви Св. Стефана. В воздухе было так тепло, как бывает весной. Церковь была еще совсем пуста. Я встал в темный угол и весь отдался созерцанию этого величественного здания. Словами передать красоту и величие этого свода невозможно. Вокруг меня царствовала глубочайшая тишина, которая была прервана громко раздававшимися шагами сторожа, пришедшего зажечь свечи. За мной и предо мной были могилы, только надо мной их не было. В эти минуты я живее чем когда-либо чувствовал свое одиночество и сиротливость».
Читая эти строки, невольно вспоминаешь поэтичные, дышащие какой-то тихой грустью ноктюрны и прелюдии Шопена: вероятно, они возникали в его душе, когда он находился в том настроении, которое запечатлено в вышеприведенном отрывке.
В конце концов Шопен решился-таки дать свой концерт, но концерт этот был очень неудачен. Музыкальный сезон уже кончился, и многие уехали на лето из Вены. К тому же, вследствие польского восстания, обитатели Вены не были склонны особенно восторгаться молодым польским артистом. Народу собралось немного, и Шопен даже не покрыл издержек. Это было ему очень неприятно, потому что деньги, взятые из дому, подходили к концу и он должен был просить отца выслать ему еще денег. Деликатному, самолюбивому до щепетильности Шопену было тяжело сознавать, что в двадцать два года он все еще живет на средства отца, который и без того истратил так много денег на его музыкальное образование. Но в то время ему было очень трудно заработать деньги.
Из Вены он сделал экскурсию в Мюнхен и Штутгардт и там с большим успехом играл в концертах. В Штутгардте он получил известие о печальном исходе польского восстания и, мучимый тоской по родине, там же написал свой знаменитый этюд C-moll.
После неудачного концерта ему совсем уже нечего было больше делать в Вене, но, по свойственной ему нерешительности, он все-таки пробыл там еще некоторое время. Наконец он решился уехать и достал себе паспорт в Англию, проездом через Париж (A Londres passant par Paris). Впоследствии, когда он окончательно поселился в Париже, он часто говорил смеясь: «Я здесь только проездом».
Приехав в Париж, Шопен первое время был совершенно опьянен кипевшей там шумной уличной жизнью. В это время обычная шумная жизнь Парижа имела еще более напряженный, лихорадочный характер: прошел только год со времени воцарения Луи Филиппа, и народ еще не мог прийти в себя после Июльской революции; все было неспокойно и малейшего повода было достаточно, чтобы вызвать уличные беспорядки, грозившие принять серьезные размеры. Общественные и политические вопросы так волновали всех, что даже Шопен, обыкновенно столь равнодушный к политике, был несколько увлечен общим течением. Он пишет Войцеховскому о разных политических новостях и подробно описывает ему уличную манифестацию по случаю приезда в Париж польского генерала Раморино. Живя в пятом этаже на бульваре Poissonni?re, против квартиры генерала Раморино, он имел возможность из окна наблюдать за собравшейся толпой, и это зрелище произвело на него потрясающее впечатление. Особенно подействовали на него «грубые голоса и крики» столпившегося народа. Шопен, со своим нерешительным, мягким характером, не выносившим даже самых незначительных неловкостей и шероховатостей в обращении, со своей чуткостью ко всему изящному и утонченному и болезненным отвращением к резким, ярким краскам, Шопен, с детства вращавшийся в аристократических салонах, не мог, конечно, сочувствовать демократическому движению. Величие народных восстаний и поэзия борьбы не увлекали его, а возбуждали в нем только ужас. Он слишком был поглощен своей внутренней жизнью и по самому складу своей натуры, по своему артистическому темпераменту оставался чужд идеям, волновавшим его современников: он был слишком большим «эстетиком», чтобы победить в себе предубеждение против неэстетичности проявления этих новых идей. В этом отношении он является прямой противоположностью другого великого артиста, жившего в одно время с ним и бывшего его большим другом – знаменитого Ференца Листа. Энергичный, мужественный, Лист был большим демократом и в молодости даже увлекался сен-симонизмом.
В литературе и в искусстве вообще в то время тоже кипела оживленная борьба. Тридцатые годы во Франции были эпохой расцвета романтизма, когда в литературе творили Виктор Гюго, Жорж Санд, Дюма, Альфред де Мюссе, Готье; в живописи – Делакруа, Анри Шиффер, Орас Берне, Деларош; в музыке – Берлиоз. Но в искусстве, как в политике, Шопен стоял в стороне от идейного движения. Характерно, что, будучи одним из типичнейших представителей романтизма, будучи романтиком по натуре и романтиком во всех своих произведениях, он в то же время в теории не признавал романтизма. Он не любил Берлиоза, находил его сочинения слишком дикими и необузданными и выше всех композиторов ставил Моцарта, сочинения которого своим ясным, классическим стилем являли прямую противоположность его собственным сочинениям. Разговаривая однажды со своим учеником Гутманом о Берлиозе, Шопен сделал пером несколько чернильных пятен на бумаге, потом сложил ее пополам и сказал: «Вот таким образом Берлиоз пишет свои произведения. Он брызгает чернила на нотную бумагу, и в результате получаются случайные соединения нот».
Рекомендательных писем в Париж у Шопена было немного, большая часть из них относилась к музыкальным издателям, но тем не менее он вскоре познакомился со всеми наиболее выдающимися представителями парижского музыкального мира. Он часто бывал у Керубини, у которого собирались многие музыкальные звезды, как, например, Лист, Мошелес, Обер, Россини, Мейербер, Мендельсон, Гиллер и другие. Шопен вскоре освоился с этим кругом и сделался там своим человеком.
Самым замечательным пианистом того времени был Калькбреннер. Теперь он уже почти забыт, но тогда одно имя его наполняло благоговением сердца молодых музыкантов. Несколько освоившись в Париже, Шопен отправился к нему, намереваясь поступить в ученики. Но этот план не удался, потому что Калькбреннер брался быть его учителем только с тем условием, чтобы Шопен обязался учиться у него три года, на что Шопен не согласился, полагая, что три года учения будет для него слишком много. Но с Калькбреннером у них сохранились хорошие отношения, и последний вскоре сам признал, что Шопен не нуждался в его трехгодичном курсе. Калькбреннеру Шопен посвятил свой второй концерт. Вот что пишет Шопен своему учителю Эльснеру по поводу этого инцидента с Калькбреннером: «Трех лет учения для меня слишком много. Я, конечно, стал бы учиться и более трех лет, если бы думал, что этим достигну той цели, которая стоит передо мной. Но для меня ясно, что я никогда не сделаюсь копией Калькбреннера: ему не удастся сломить мое может быть и дерзкое, но высокое и твердое решение – открыть новую эру в музыке. Если я теперь продолжаю работать над своей фортепьянной игрой, то только для того, чтобы быть в состоянии потом стоять на своих ногах. Когда Рис был уже известен как пианист, ему нетрудно было пожинать лавры своей оперой „Невеста разбойника“. И как долго Шпор был уже известен как скрипач, прежде чем он написал „Фауста“ и другие свои знаменитые вещи. Надеюсь, что вы не откажете мне в своем благословении, узнав, на каком основании и с каким намерением я отказался от уроков Калькбреннера». Это письмо очень любопытно: в нем Шопен является не мечтательным, поэтичным юношей, а человеком, поставившим себе известные задачи и решившимся осуществить их. Но во всех сохранившихся письмах это единственное такое место. Потом он, по-видимому, не заботился больше о том, чтобы открывать новую эру в музыке.