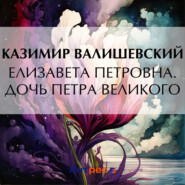По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Смутное время
Жанр
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Поход начался преблагополучно. В деревне Жукине, близ последней литовской крепости Остера, получили известие, что Моравск открывает ворота. Через неделю его примеру последовал Чернигов. Мятежное население обоих городов обезоруживало защитников. Казаки и стрельцы захватывали воевод и начальников и скованных приводили их в стан Дмитрия.
Не так распорядились в Новгороде-Северском. Его гарнизон получил подкрепления. Воеводы Н. П. Трубецкой и П. Ф. Басманов опоздали на выручку Чернигова и вернулись сюда с войском, набранным частью в Москве, частью здесь же, в окрестностях. Под его стенами нашествие приостановилось; несколько недель подряд нападающие истощали свои силы на бесплодные приступы. Польские гусары не могли справиться с защищенными артиллерией фортами, а досада Дмитрия еще более раздражала их. Осада затягивалась; отдельные отряды под командой отважных партизан продвигались вперед, до самого Путивля, а мятежное настроение быстро разливалось по всей области. Сдавались другие города; по «Крымской дороге» в Московию проникали запоздавшие казаки и действовали со своей стороны довольно успешно. В большинстве городов по дороге они находили очень жалкие гарнизоны из казаков других служб, которые без сопротивления братались с товарищами. В две недели Путивль, Рыльск, Севск с уездом, Курск, Кромы, за ними Белгород и Царево-Борисов, огромные территории по бассейнам Десны, Сейма, Северского Донца, до верховья Оки признали «истинным царем» того, кто осаждал Новгород-Северский.[185 - Никоновская летопись, VIII, 60–61 и Русск. Ист. Библ. XIII, 26; Акты Западной России, IV, 280–281; Акты Юшкова в Чтениях Общ. Ист. и Древ. Росс., 1898, III; Собрание государственных грамот и договоров, II, № 80; Сборн. лет. к ист. южн. и зап. Рос., 78; Борша, Русск. Ист. Библ., I; Записки Паерле, Маржерета и т. д. Ср. Платонов. Очерки по истории смуты. 261–263.]
Под стенами неприступной крепости его силы непрерывно росли; не только прибывали польские волонтеры и казаки – такие представители польской аристократии, как Яков Струс с 1 000 всадников, князь Рожинский с несколькими сотнями, девять тысяч донских казаков и три тысячи запорожцев,[186 - Darowsky, Kraj 1898, № 47.] – но являлись и дворяне московские, и даже, важный показатель успеха, – дьяки с казной, которой снабдил их Борис для содержания своих войск. Из Путивля и других сдавшихся городов привезли пушки. Судя по одному письму из Чернигова от 11-го ноября 1604 г., Дмитрий располагал уже 38 000 людей.[187 - Рукописи Библиотеки Замойских в Варшаве, т. VIII, № 31.]
Между тем главные силы Бориса еще только сосредоточивались в Брянске, на полпути между Смоленском и Северщиной. В Москве потеряли много дорогого времени в колебаниях, не решаясь остановиться на определенном плане обороны ввиду неизвестности, в которой находились относительно характера и направления наступлений, с которыми приходилось бороться. Долгое время не допускали мысли, чтобы претендент осмелился один пуститься в такой поход, и боялись вмешательства Польши. Думали было сосредоточить войска у р. Сосны близ Ливен, чтобы остановить у степей казаков, шедших на соединение с Дмитрием. Когда же этот план нашли неудачным, и пришлось подумать о защите Кром, главного узла дорог, этот город оказался уже занятым.
У Брянска войска собирались крайне медленно, и, когда в конце декабря первый отряд под командой кн. Ф. И. Мстиславского подошел к Новгороду, силы Дмитрия могли дать серьезный отпор. Польская кавалерия на этот раз проявила чудеса храбрости; тяжело раненый воевода Бориса после больших потерь ударил отбой и поспешно отступил. Легко понять, что эта блестящая победа произвела сильное впечатление; однако, последствия ее тяжело отозвались на претенденте. Главные виновники торжества, поляки, опьяненные успехом, проявили свой непокорный и задорный нрав: они потребовали немедленной уплаты всего жалованья, заявили и другие несуразные претензии. Их обычная бурливость, вероятно, еще усиливалась от неприятного сознания, что число их начинает тонуть среди массы казаков и московских людей, постоянный прилив которых ослаблял их влияние в стане Дмитрия. Да и сам новообращенный католик, благодаря такой поддержке, снимал личину, становившуюся все более и более неуместной. Большая часть государства готовилась признать его царем, и он понемногу освобождался от польского влияния. Продолжал ли он потихоньку исповедываться, как свидетельствует дневник патера Лавицкого? Это возможно. Рим еще не сказал своего последнего слова. Публично претендент выказывал гораздо больше почтения Курской иконе Божией Матери. Наконец, как ни были храбры земляки Мнишека, но зимние походы не входили в их привычки. Они объявили, что желают вернуться домой. Претендент тщетно расточал свою плохо пополнявшуюся казну и унизительные мольбы, «бил челом», «падал крыжем» перед дезертирами, чтобы побудить их отказаться от своего намерения. Ему отвечали оскорблениями. – «Ты самозванец и умрешь на колу»,[188 - Борша. Дневник, Русск. Ист. Библ., I, 382.] – выкрикнул один шляхтич. На это Дмитрий ответил пощечиной. Рука у него была тяжелая и ловкая; послышались одобрения казаков, и размашистый ответ немного поправил его пошатнувшийся престиж. Но ухода поляков не удалось остановить.
Еще под Черниговом сам Мнишек заговорил о возвращении. Под Новгородом он написал почти отчаянное письмо киевскому епископу, жалуясь, что ожидаемые из Польши подкрепления не приходят.[189 - 3 дек. 1604, список с него имеется в библиотеке Замойских в Варшаве.] Теперь он присоединился к беглецам, ссылаясь на приказание короля и на необходимость присутствовать на сейме, чтобы отстаивать интересы своего будущего зятя. Когда не хватило казны, поляки пытались увезти соболью шубу «господарчика», и русским пришлось выкупать это одеяние! Осталось несколько плохо вооруженных эскадронов под начальством нового командира, Адама Дворжицкого; иные покорно вернулись или были заменены новобранцами; польский отряд так растаял, что по прибытии в Москву его целиком могли разместить по пристройкам посольского двора. Силы Дмитрия ослабели; с приближением главной армии Бориса ему пришлось снять осаду Новгорода. Проходя через Севск по местности, где все крепости уже принадлежали ему, он пытался пробраться в Кромы. Там он мог бы обойти неприятеля слева и продолжать путь на Тулу и Калугу. Но царские воеводы пошли за ним по пятам и, вероятно, заставили его принять битву на р. Севе между Добрыничами и Чемлигом. Войска встретились 20 янв. (31 н. с.) 1605 г.; отсутствие великолепных гусар очень жестоко отозвалось на Дмитрии. Отважный до дерзости, всегда готовый жертвовать собой, Дмитрий знал, что ставит на карту свою судьбу; он не щадил себя, сражаясь как простой воин; но он не мог спасти от полного поражения своей армии, охваченной паническим страхом при первом натиске врага. Отброшенный на юг, к Сейму, он не мог удержаться у Рыльска и бежал до Путивля. По свидетельству Маржерета, служившего в войске Бориса, виновниками разгрома оказались поляки, оставшиеся верными претенденту. Испуганные «залпами 10-ти или 12-ти тысяч пищалей», они первые смешались. Но более правдивый свидетель, сам Дмитрий, в письме от 18 апреля 1605 г. винит во всем запорожских казаков, и Борша, его лейтенант, в самом деле упоминает о казаках, которых царевич пытался вернуть к битве ударами своей сабли.[190 - Маржерет, стр. 78; Русск. Ист. Библ., I, 387; Pierling. La Russie et le Saint-Si?ge. III, 139.]
Как бы то ни было, поражение было полное до того, что не оставалось, по-видимому, надежды на успех. По одному источнику, претендент уже пытался было вернуться в Польшу. Его остановили московские люди, которым был невыгоден такой оборот дела; они желали довести до конца рискованное предприятие. Исход был бы несомненным, если бы воеводы Бориса вполне воспользовались победой и поспешили преследовать его до Путивля, чем бы и заставили отступить за рубеж. Щедро награжденные царем, осыпанные почестями и подарками, они впоследствии подверглись обвинениям в неблагодарности, даже в уговоре с изменниками, которые способствовали первым успехам претендента. И все-таки под Добрыничами они проявили преданную верность своему правительству: победив, энергично преследовали врага до Рыльска, который осадили. Но зимняя пора, обилие лесов и враждебное отношение населения, которое еще обострялось карательными мерами, очень затрудняли военные действия. Подобно польским ополченцам, московские войска, хотя более их послушные, даже и летом не выдерживали продолжительного пребывания в строю. Оставались ли они победителями или побежденными, они одинаково стремились на покой. Под Рыльском ряды их так быстро таяли, что Мстиславский думал совсем распустить их, отложив борьбу до нового похода. Его остановил решительный приказ Бориса. Мстиславский должен был заместить Ф. И. Шереметева, чтобы продолжать осаду Кром. Но ему пришлось иметь дело с деморализованной армией, в которую скоро проник дух измены.
Восстание в областях юго-западного рубежа, которого в Москве не предвидели, подняло большое стратегическое значение Кром, и после битвы при Добрыничах именно здесь, вопреки ожиданиям, должна была решиться судьба династии Годуновых. Вею весну 1606 г. боролись из-за этого пункта, откуда казаки легко могли угрожать тылу московской армии; для Дмитрия же потеря его закрывала пути к Калуге. Вынужденный идти правым берегом р. Оки, он встретил бы на переправах ряд сильных укреплений, защищавших доступ к столице.
Сооруженный в 1595 г., этот маленький городок сыграл роль Плевны. Господствуя над левым берегом р. Кромы, он был окружен болотами, через которые проходила всего одна дорога. Самый город с посадом были укреплены по образцу московских крепостей: снаружи высокий и широкий земляной вал и такая же бревенчатая стена внутри с башнями и бойницами. Весь гарнизон состоял из 200 стрельцов и немногих казаков. Начав осаду в конце 1604 г., Шереметев вел ее без успеха до марта, когда к нему присоединились главные силы Бориса и скоро завладели земляным городом; самый кремль частью сожгли, частью разрушили. Но осажденные казаки оказывали стойкое сопротивление, скрываясь, как кроты, в подземных траншеях. Ими командовал известный атаман Корела, слывший колдуном, вероятно, уроженец Курляндии,[191 - Из Кексгольма, по-русски Корела.] маленький человек, весь в рубцах от заживших ран. Борис прислал подкрепления, состоявшие из посохи, крестьянского ополчения без военной подготовки. Казаки Корелы гораздо лучше его выносили все лишения и тягости зимнего времени. Они привезли с собой много саней, служивших передвижной защитой, куда заботливо прятали запасы, сухари и водку. Забившись в норы, они пили и пели песни, а по временам выбирались из логовищ, чтобы смутить осаждающих меткостью своих долгоствольных мушкетов или просто побахвалиться. С ними были женщины; разгулявшись после выпивки, осажденные заставляли несчастных взбираться на полуразрушенные стены и, подняв платья, показывать врагам мягкие части тела, в знак особого презрения и обидного издевательства.
Пока тянулась осада, между сторонами завелись и менее враждебные отношения. Начали обмениваться вестями, прикрепляя записки к стрелам. Когда у осажденных не хватило пороху, они нашли его в мешках, подброшенных в траншеи поближе к смелым стрелкам.[192 - Костомаров. Смутное время, I, 179.] Вслед за битвой при Добрыничах, когда, по-видимому, все повернулось против Дмитрия, подготовилась иная, неожиданная для всех развязка.
Под защитой Кром Дмитрий не терял времени в Путивле. Его разведчики проникали всюду от равнин Днепра до Уральских гор и Крымских степей, бродили вдоль Дона, Волги, Терека и Яика, всюду возбуждая население и набирая из воинственных племен местные ополчения. Заявляя Рангони, что в апреле и мае 1605 г. он добился содействия большинства татарских[193 - Pierling. La Russie et le Saint-Si?ge, III, 139.] орд, претендент, несомненно, прихвастнул: мусульмане все время мало способствовали его успехам. Широковещательность и похвальба были ему свойственны. Потеря Кром еще грозила разрушить его расчеты, а он не стеснялся говорить и действовать как победитель. Он письменно обратился к Борису с перечислением его преступлений, как похитителя престола, и великодушно обещал прощение в награду за немедленную покорность. В посольстве к Сигизмунду он выражал сожаление, что часть подданных короля покинули «своего царя», и просил его дальнейшего содействия.[194 - Костомаров. Смутное время, I, 143.] Тут много ребяческой кичливости. Татары не двигались. Только прилив казаков не прекращался. Присутствие в Путивле подлинного Гришки Отрепьева вполне установлено источниками; оно очень привлекало военные силы; а Дмитрий уже думал о реформах в своем будущем государстве.
В тайных беседах, которыми он жаловал своих польских духовников, его любимой темой, по их словам, был план полного преобразования старой Московии со стороны вероисповедания и культуры. Он мечтал о немедленном учреждении начальных и средних школ, даже академий. Сын Грозного разделял мнения и чувства своего отца, не считал монахов полезными сотрудниками, и поэтому находил необходимым выписать учителей из-за границы. Но учеников тоже могли не найти. Ну, тогда и их на первый случай тоже можно выписать из Германии и Англии! – Увы, в этих беседах будущий преобразователь, углубляясь в себя, замечал свою собственную слабость; его научный и литературный багаж очень скуден, составлен из спутанных обрывков элементарных знаний: плохо затверженные тексты из св. писания, смутные понятия из истории и географии: его неясные ссылки на Филиппа и Александра, Константина и Максенция, рискованные обращения к Геродоту и Фукидиду напоминают смятение мыслей Ивана IV-го. У Дмитрия была охота к знанию и приемы любознательного человека. Даже на коротких остановках на его столе появлялась географическая карта, и он умел ею пользоваться. Согнувшись над картой, он высматривал караванный путь в Индию по землям, принадлежавшим Москве или подпавшим ее влиянию, сравнивал сухопутный маршрут с морским путем вокруг мыса Доброй Надежды и находил его более удобным. Но достаточно ли этих знаний для той роли просветителя, на которую он претендовал, не нужны ли прежде всего ему самому те учителя, которых он готовил для будущих подданных? Да, несомненно! А где их найти? А два духовника, не пригодятся ли они? Эти иезуиты должны быть учеными людьми. Дмитрий тотчас привлекает их к делу. Он видит книгу под рукой патера Андрея. Это том Квинтиллиана. Да здравствует риторика! Он требует, чтобы обладатель драгоценного сборника перевел ему несколько страниц, и сейчас, не медля ни минуты.
Приблизительно так же будет поступать и Петр Великий. Увлеченный новизной, нетерпеливый ученик требовал правильных занятий: утром посвящали час уроку философии, вечером час грамматике и словесности. Решили преподавать на польском языке; чтобы облегчить ученику работу, секретарь записывал уроки и давал ему в переводе. Эти подробности очень ценны ввиду тех легенд, которым долго верили. Обманщик, воспитанный в Польше под ферулой сынов Лойолы, очевидно, не нуждался бы в таких занятиях. Дмитрий же проходил одни только эти импровизированные курсы в Путивле. Он себя прекрасно держал перед учителями, – отвечал уроки очень серьезно, стоя и с непокрытой головой.[195 - Pierling. La Russie et le Saint-Si?ge, III, по дневнику патера Лавицкого.]
Этот опыт продолжался очень недолго. Готовясь к предстоящим обязанностям, Дмитрий погрузился на время в приятные мечты, пока окружавшие его московиты жестоко не разбудили его. Еще время не настало пробивать окно в стене, отделявшей его родину от образованной Европы. Через сто лет за это дело возьмется другой, более способный работник. Теперь же претендент еще не настолько господин положения, чтобы безнаказанно разыгрывать школьника; казаки отнеслись подозрительно к его занятиям мирскими науками, и очень враждебно к сближению царя с сообщниками сатаны, чье присутствие в стане православных было уже соблазном. Да и немало других забот скопилось у последователя Квинтиллиана. Через несколько дней уроки прекратились. Но представьте себе психологию простака, беглеца из Чудова монастыря, увлекшегося хотя бы случайно диковинками знания, в бурное время с такой живостью ума проявившего интерес к благородным занятиям, такое глубокое и верное понимание ответственной роли, которую брал на себя.
Утвердившись победителем в Москве, Гришка Отрепьев поискал бы иных развлечений. В Путивле Дмитрий еще не мог свободно развернуться. Как он ни разыгрывал государя, сколько ни снаряжал посольств, как ни развенчивал Бориса, переименовав Борис-город в Царьгород, новая царская резиденция все оставалась местечком, и Путивль ничем не напоминал столицу. Если бы Борис поспешно прислал новое подкрепление под Кромы и дал возможность воеводам захватить это логовище кротов, претенденту ничего бы другого не оставалось, как направиться в Рим, как того желал Остророг, и потребовать там награды за свое обращение.
Но жених Марины еще не исчерпал всех счастливых случайностей. В первые дни мая под Кромы принеслось известие о непредвиденном трагическом событии; для претендента оно равнялось значение выигранного сражения, и в такое время, когда он не мог бы отважиться на открытый бой.
V. Победа
Борис как будто не уяснил себе, какая гроза разражалась над его головой. Он отказывался понимать, как это горсть казаков и поляков-авантюристов, искателей приключений, могла взаправду угрожать его государству. Под Добрыничами его воеводы без труда разгромили шайку бунтовщиков; отчего же они не довели дела до конца? Он строжайше наказывал немедленно схватить лже-царевича, а в ответ получил неприятные донесения о постыдной осаде, которую выдерживала горсть разбойников против целой армии царя. Всегда подозрительный, он предчувствовал измену и потерял сон и здоровье. 13 (23) апреля 1605 г.[196 - Число это указано официальными документами, Собрание государственных грамот и договоров, II, № 83 и Попов, Изборник, 327, и подтверждается Маржеретом. Но надпись в Троице-Серг. Лавре указывает на 1 мая.] по выходе из-за стола у него открылось сильное кровотечение, и через несколько часов он скончался. Простой случай, убийство или самоубийство? Во время этого неожиданного происшествия обсуждались всевозможные предположения, и до сих пор еще ни на одном из них нельзя остановиться. Случаи кровотечения, когда кровь лила изо рта, носа, ушей и даже глаз, довольно часто встречались тогда в России; их обыкновенно приписывали отраве. Предположение о самоубийстве Бориса преобладало во мнении современников, но они сообщают такую драматическую окраску последним минутам государя, что их рассказы подозрительны.[197 - Никоновская летопись, VIII, 64; др. лет. известия Русск. Ист. Библ., XIII, 39, 159, 492, 533, 574, 727, 806. Rer. Ross. Script. ext., I, 31, 172; Новгородская летопись, 471; Карамзин. История Государства Российского, XI, прим. 105. См. др. источники Hirschberg. Dymitr Samozwaniec, стр. 109 и след.]
Такое же разноречие, сохранившееся до наших дней, проявлялось и в суждениях о личности высокого покойника. – Intravit ut vulpes, regnavit ut leo, mortuus est ut canis,[198 - «Вошел как лисица, царствовал как лев, умер как собака».] сказал немец Буссов вместо надгробного слова. Не щадили Бориса Годунова ни современные ему летописцы, ни народная поэзия: – он коршун, хищная птица, он глупец, воображавший, что может править Русью, обманывая бояр.[199 - Киреевский. Сб. нар. песен, II, 2.] Историки того времени тоже неблагосклонны к нему, но они все-таки пытались разобраться в чертах физиономии необыкновенного человека и темных сторонах его жизни и отыскать более верный путь и в превратностях света и тени; их преемники продолжают эти попытки, колеблясь между менее резкими, но все еще очень затруднительными противоречиями. Надеюсь, что читатели этой книги получили некоторую возможность составить себе об этом предмете более ясное и определенное представление. Всегда связанный, наконец задушенный цепью злоключений, узел которых он сам затянул в Угличе, ни во время борьбы за власть, ни тем более в немногие смутные годы царствования сам венчанный временщик так и не сумел вполне раскрыть свои несомненные сильные дарования.
Умирая, он оставил двоих детей, сына и дочь, в очень опасном положении. Сын, 18-летний Феодор, считался одаренным умом и способностями. Борис постарался дать ему далеко не то образование, какое получали по обычаю дети московских государей. Он выписал для сына иностранных учителей, рано приучал юношу к понимание правительственных дел; судя по сохранившимся официальным документам, отец ничем не пренебрегал, чтобы укрепить за ним престол, и еще при жизни приблизил его к обязанностям и почестям власти. Дочь его Ксения славилась красотой, и даже с избытком, к своему несчастью, как увидим далее. Оба, брат с сестрой, могли привлечь к себе общее сочувствие; но Борис так энергично устранял своих соперников и всех, кто казался ему опасным, что вокруг него и его семьи образовалась какая-то пустота. Из пяти братьев Романовых трое умерли в ссылке; Филарет жил в монастыре в заключении; пятый, Иван, вернулся из Сибири совершенно разбитым. Богдан Бельский и Симеон Бекбулатович были тоже в ссылке, последний к тому же лишен зрения. Умер Андрей Щелкалов, последний видный член семьи, уже вследствие опалы своей главы отодвинутой на задний план. Из потомков Рюрика и Гедимина Шуйские, Голицыны и Мстиславские считались не опасными. Борис не стеснялся назначать их в походы против претендента. Не опасаясь их, он не мог, однако, рассчитывать на особое усердие с их стороны; и маленький круг лиц, в чьей преданности он мог быть уверен, состоял из нескольких приближенных, незначительных личностей, как Сабуровы и Вельяминовы, даже ничтожных, требовавших поддержки, как Плещеевы или новейший фаворит, молодой честолюбец Петр Феодорович Басманов, из древнего, но незнатного боярского рода. В кружке не было ни одного сильного человека.
Феодор спокойно занял отцовский престол, когда мать его, царица Марья Григорьевна, подобно Ирине, уступила слезным мольбам всего народа и согласилась на воцарение сына. Эта театральная церемония записывалась в грамоту и по заведенному обычаю входила в содержание государственного акта. Новый царь тотчас решился на меру, перед которой отступал Борис. Бездеятельность Шуйского и Мстиславского под Кромами показалась подозрительной; он поспешил отозвать их, а взамен наметил Басманова. Но при армии состояли двое Голицыных, Василий и Иван Васильевичи; могли возникнуть местнические счеты, и потому к новому воеводе-главнокомандующему назначили для почета кн. М. П. Катырева-Ростовского.
Отправляясь на службу, Басманов, по-видимому, стремился оправдать оказанное ему доверие. Укрепить верность войск – его первая задача; он привел их к присяге новому государю. Но я уже указал, что формула присяги показалась сомнительной. Она только усилила шаткость мыслей, давно проявлявшуюся среди воинов; и Басманов не мог пренебречь таким предупреждением. Иные подозревали, что войско – flos et robur totius Moscoviae,[200 - «Цвет и ядро всей Московии».] как его называл патер Лавицкий, – уже вело сношения с Дмитрием. Это неправдоподобно. Войско было просто деморализовано и склонно к измене, вследствие соприкосновения с мятежным волнующимся населением области, среди которой велась борьба. Оно подчинялось влиянию мятежной среды, давление людских масс, увлеченных таинственной легендой, движимых отвращением к бедственным государственным порядкам и надеждой на лучшее будущее, наконец, заманчивой мечтой – приобрести что-нибудь при разделе наследия побежденных; – смесь законных порывов и темных страстей, обычные двигатели великих народных волнений.
Выдвинутые против претендента военные силы растворялись в этом брожении; смерть Бориса и смена командующих ускорили ход событий, и поворот в обратную сторону проявился вдруг среди темных трудно объяснимых условий.
По словам летописи, Басманов, братья Голицыны и М. Г. Салтыков провозгласили низложение Феодора и воцарение Дмитрия 17-го мая 1605 г. (стар. ст.) на собрании созванных ими представителей четырех городов – Рязани, Тулы, Каширы и Алексина. Разрядная книга, подтверждая это свидетельство, называет еще одно действующее лицо, нам уже известное – Прокопия Ляпунова. Современник Грозного Петр Ляпунов, его пятеро сыновей – Григорий, Прокопий, Захар, Александр и Степан, и два племянника, Семен и Василий, принадлежали к очень влиятельной семье служилых людей рязанской области, чрезвычайно подвижной и деятельной, хотя не возбуждающей симпатий. Мы видели некоторых ее членов во главе мятежа, вспыхнувшего вслед за смертью Ивана IV; позже все они выдвинутся в самые бурные моменты «Смутного времени», наступающего теперь при их вероятном содействии. В правление Бориса Захар дважды, в 1595 и 1603 гг., подвергался строгой каре за разные проступки: местнические ссоры и преступные сношения с непокорными казаками. Следует думать, что он вместе с братьями возбуждал и направлял местное мятежное движение, перед которым отступили Басманов и другие воеводы.
Главная масса войск играла пассивную роль в этих происшествиях; немецкая конница желала сохранить верность своим обязательствам, а князь Телятевский даже упорно защищал вверенную ему артиллерию и затем спасся в Москву. По одному рассказу, повторяющемуся в других сказаниях иностранцев, Дмитрий ускорил переворот очень грубой выдумкой. Осаждающим дали возможность перехватить письмо, адресованное им в Кромы; из него узнали, что польский король присылает Жолкевского, который приближается с 40 000 поляков. Один из офицеров претендента, Ян Запорский, отправленный в то же время в Кромы с отрядом в 1 000 человек, не знает этой подробности, но уверяет, что расстроил московское войско, захватил сто пушек, чем и побудил его сдаться.[201 - См. это свидетельство и несогласное с ним известие другого поляка – сторонника Дмитрия – Вислуха, у Hirschberg, Dymitr Samozwaniec, p. 113.] Это, очевидно, басни; в этом случае Ляпуновы лучше послужили на пользу пострадавшего при Добрыничах. Василий Голицын с Басмановым, по некоторым свидетельствам, оказывали только притворное сопротивление народной массе, велели себя даже связать на всякий случай, чтобы лучше прикрыть измену.[202 - Никоновская летопись, VIII, 66.] Наоборот, Маржерет обвиняет Василий Ивановича Голицына и Басманова в том, что они сами велели связать других воевод. А Василий Иванович Голицын отсутствовал! Как всегда, известия сбивчивы и противоречивы.
Дмитрий был извещен о смерти Бориса 5-го мая молодым сыном боярским Авраамом Бахметьевым, служившим в царском войске под Кромами, что и подало знак к отложению. 22-го мая многолюдное посольство с кн. Иваном Голицыным во главе привезло в Путивль изъявления покорности и верноподданнических чувств всей армии. Один путешественник записал слухи о некоторых условиях, предварительно предложенных претенденту и принятых им. То был Петр Аркудиус, родом из Корфу, присланный Римским двором в Польшу с миссией, частью политической, частью научной, не имевшей непосредственного отношения к Московии. Проекты конституционных договоров со слабыми преемниками Грозного носились в воздухе, как мы знаем. Они вспыхивали во время избрания Бориса; они станут на очередь во все критические моменты, какие предстоит переживать московской системе централизации и принципу самодержавия до самого воцарения Романовых. Но войско, сдающееся без битвы, не может предписывать условий; ни один источник не подтверждает подобного факта, к тому же не оставившего следа в позднейших событиях.[203 - Pierling. La Russie et le Saint-Si?ge, II, 375, III, 169.]
Победитель, не выигравший, со своей стороны, сражений, не проявивший до сих пор талантов полководца, Дмитрий показал себя с лучшей стороны как политик. Чтобы воспользоваться своим торжеством, он не нуждался в войсках, так плохо служивших делу Бориса. Он поспешил их распустить, кроме небольшого отряда, который направил в Орел. Исполнение этих распоряжений было возложено на кн. Бориса Михайловича Лыкова, старинного друга Романовых и будущего мужа дочери Никиты Романовича; выбор знаменательный. Затем, не теряя времени, 26-го мая претендент двинулся вперед со своими казаками и поляками. По словам очевидца, не доверяя донцам и запорожцам, он заботливо отдалял их от своих шатров и окружал себя исключительно польской стражей. Но очевидец был сам поляк![204 - Борша. Рос. Ист. Библ., I, 396—7.]
На дороге из Путивля в Москву через Орел и Тулу только гарнизоны Калуги и Серпухова оказали некоторое сопротивление победителю. Под стенами Серпухова он стоял в тех же шатрах, в которых семь лет назад Борис изумлял великолепием татарское посольство. Вокруг Дмитрия образовался уже двор; он начинал править. В Москве же еще существовали царь и правительство; там захватывали и казнили послов Дмитрия. Простонародье столицы, чернь, после смерти Бориса постоянно волновалась. Пытавшихся ее успокоить бояр она смущала нескромными вопросами о царевиче Дмитрии и Гришке Отрепьеве и требовала подробных сведений о катастрофе в Угличе. Но до измены войск под Кромами с этими беспорядками кое-как справлялись. Угличский следователь, кн. Василий Иванович Шуйский, выходя на Лобное место, клятвенно уверял, что сына Марии Нагой нет в живых. После событий в Кромах положение быстро ухудшалось. Грозный мятеж осложнялся паникой. Прошел слух, что атаман-чародей Корела уже стоит под стенами столицы. Богатые люди прятали свои сокровища; они одинаково боялись и казаков и черни. Начальство все-таки пыталось организовать оборону, вооружая стрельцов, устанавливая батареи по стенам. Но приказания плохо исполнялись, а толпа смеялась над ними.
10-го июня 1605 г. два гонца Дмитрия, Наум Плещеев и Гаврила Пушкин, появились в Красном Селе, предместье столицы, населенном давнишними врагами Годуновых, купцами и ремесленниками. Гонцам тотчас же предложили провести их в город. Отряд стрельцов явился было загородить им путь, но быстро рассеялся, и оба беспрепятственно прибыли на Лобное место. Народ тотчас собрался и выслушал содержание письма претендента к боярам.[205 - Акты археографической комиссии, II, 80.] Этим все кончилось; судьба Годуновых была решена. Патриарх умолял бояр вступиться и помочь; но тут, говорит иностранец Пеер Персон, который, впрочем, один только и сообщает этот факт, Василий Иванович Шуйский отрекся от своих слов и объявил, что царевич Дмитрий спасся от смерти. Позднейшие события указывают только на быстро установившееся соглашение между мятежниками и теми, кому поручали их успокоить. Толпа хлынула в Кремль; захваченные народными волнами бояре явились туда же и даже руководили арестом Феодора. Вместе с матерью и сестрой его заключили в дом Бориса, где они жили до его воцарения. Тогда же арестовали всех их родственников и друзей.
Но чернь не могла этим удовлетвориться. Ее страсть к насилиям разгоралась; мужики разграбили и разнесли дома заключенных. И этого было мало. По тайному приказу, нашептанному неугомонным Богданом Бельским, который вернулся из ссылки по смерти Бориса, рассвирепевшие мстители набросились на иностранцев, особенно яростно на немецких врачей царя. Эти продавцы разных снадобий имели богатые погреба. Толпа бросилась в них и подогрелась на новые бесчинства.
Бояре смогли проявить свою власть только тем, что отправили посольство в Серпухов. В его состав вошли представители, высшей московской знати, кн. Ф. И. Мстиславский, кн. И. М. Воротынский, сам Василий: Иванович Шуйский с братьями, Дмитрием и Иваном. Высокие господа встретились в стане претендента с депутацией донских казаков, и Дмитрий дерзнул оказать почет донцам, допустив их первыми к руке. Уже после них ввели бояр, которых он встретил строгой речью. Более чем сомнительно, чтобы Гришка Отрепьев осмелился при подобных обстоятельствах вести себя в таком духе.
Узнав еще в Туле о покорности столицы, царевич, теперь признанный царем, выслал часть своей армии под начальством Басманова, чтобы занять ее; заведование делами он поручил кн. В. В. Голицыну с двумя товарищами, кн. Василием Рубцем-Масальским и дьяком Сутуповым, которые раньше выслужились тем, что сдали ему Путивль. Отправляясь в Москву ранее своего повелителя, они, несомненно, получили приказания, как поступить с Годуновыми; смысл их неизвестен, но не хочется верить, чтобы они предрешали ужасную участь, постигшую несчастную семью.
VI. Судьба побежденных
Голицын с товарищами прежде всего устранили патриарха Иова; его схватили во время службы в Успенском соборе и простым монахом отправили в монастырь г. Старицы. Родственников Феодора тогда же развезли в ссылку по разным местам, а самого предприимчивого из них, Семена Годунова, задушили в Переяславле. Что произошло в доме, где жил с близкими низложенный царь – дело очень темное; истина тонет в новом наплыве противоречивых сообщений. По преданию, этот дом принадлежал мрачной памяти Малюте Скуратову;[206 - Впоследствии, по приказу Дмитрия, все постройки были снесены; дворовое место в 1869 г. перешло в собственность Им. Об-ва люб. древ. письменности. См. Иконников. Опыт русской историографии. I, 2 ч., 1017.] он полон страшных воспоминаний; народное воображение населило его кровавыми привидениями. 6-го июня 1605 г. его стены сделались свидетелями новой отвратительной трагедии. Здесь был убит Феодор, задушен подушками или размозжен дубиной после долгой борьбы. Смелый и сильный, он упорно боролся с нападавшими, приставами Масальского, среди которых отличился бывший дьяк двора Грозного Андрей Шерефединов, пользовавшийся дурной славой.[207 - Никоновская летопись, VIII, 69–70. Различные свидетельства передают ужасные и отвратительные подробности, неудобопередаваемые. Сравн. Hirschberg, Dymitr Samozwaniec, 122. Автор считает Дмитрия непричастным к этой расправе, ссылаясь на Буссова, который дает более позднюю дату посылки Масальского с товарищами. Но более допустимо, что Буссов ошибался, ввиду других очень точных указаний на это время.] Борис отстранял его от дел. Дмитрий, наоборот, наделил его на ту пору особыми полномочиями, характер которых, однако, нам неизвестен.
Вдова Бориса не пережила сына; ее убили вместе с ним, если она сама не покончила с собой. Ксения, отравленная или отравившаяся, едва не умерла. Вовремя данное противоядие спасло ее для более тяжкой доли. До Дмитрия давно дошел слух о ее прелестях, прославляемых всеми современниками. Это был тип заурядной русской красавицы, с очень белой кожей, ярким румянцем, алыми губами и длинными волосами, пышными косами падавшими по плечам; она, подобно брату, получила тщательное образование. Она правильно писала, приятно пела, обладая прекрасным голосом. – «Ее тело было словно из сливок», говорит восторженный летописец, «а брови ее сходились». Новый повелитель России не мог не оценить такой красоты. Уже целый год, как из-за любви он только подписывал дарственные грамоты; Марина же была далеко. Когда тело Феодора и его матери отвезли в Варсонофьевский монастырь, что на Сретенке, чтобы предать земле, как бедняков, кн. Масальский приберегал Ксению у себя или у верного пособника, – «для потехи повелителя». – Дмитрий царствовал.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
На высоте
I. Восшествие на престол
20 июня 1605 г. солнце ярко горело на лучезарном небе, и сердца людей радостно играли. Все население столицы высыпало из жилищ. Самые крыши домов расцветились принаряженными горожанами; люди, как грозди, висели на деревьях. Медленно тянулись часы ожидания; тысячи глаз впивались в далекий горизонт на востоке, и в глубине внимательной, напряженно-сосредоточенной, как в храме, народной массы разгоралась лихорадка радостного нетерпения. Наконец на Коломенской дороге показалось облако, сквозь которое посверкивали огненные полоски. Загрохотали пушки, и тотчас словно колоссальная волна пронеслась по людям, пригибая к земле, как бы стирая взволнованный народ, обращая в ковер трепещущего мяса быстро склонившиеся тела; когда все лежали распростертыми, прижимая лбы к земле, от этого пыльного слоя рабов колоссальный вопль вознесся к небу: «Челом бьем нашему красному солнышку!»
Затмевая великолепием светило небесное, «красное солнышко» появилось на левом берегу р. Москвы среди пышного поезда: стрельцы в раззолоченных красных кафтанах, русские всадники, сияя золотом и каменьями, польские гусары в блестящем вооружении окружали роскошной рамкой величественный строй русского духовенства. «Солнышко» приближалось в сиянии величия и могущества.
– «Дай тебе Бог здоровья!» – кричала толпа, вся трепещущая в прилив страстной преданности, с плачем и рыданиями изливая в воплях свое счастье, свою любовь. Приподнимаясь на стременах, Дмитрий отвечал: – «Дай Бог вам тоже здоровья и благополучия. Встаньте и молитесь за меня!» – Он прибыл! Переехав мост, он вступил на Красную площадь и приближался ко дворцу, из которого его так позорно изгнали 20 лет тому назад. Но вдруг небо помрачилось; порыв вихря, подняв густую тучу песку, точно накинул траурный покров на ликующее великолепие празднества.
– «Господи, помилуй нас!» – шептали мужики, крестясь и пересуживая между собой мрачное знамение.
Предвестник бедствия, которого никто еще тогда не мог предвидеть, вмешательство атмосферического явления могло быть и выдумано впоследствии догадливым летописцем. Куда ужаснее была бы буря, как бы нарушила она торжественное вступление новообретенного царя в отвоеванную столицу, если бы из этой самой распростертой при его проходе толпы десять, сто голосов выкрикнули:
– «Прочь! Ты не тот, кого мы ожидали, кому посылали приветы и благословения! Мы тебя узнаем! Мы слушали твой голос за аналоем, пили с тобою по кабакам! Ты – не Дмитрий: тот, без сомнения, умер и не вернется. Ты – Гришка Отрепьев!»
Но ни одна летопись не помнить таких нестройных криков; да и мудрено им было раздаться! – Ведь бывший дьякон Чудова монастыря был тут же, следуя за всеми признанным обожаемым господином, и обменивался знаками с былыми собутыльниками и случайными товарищами! Не раздалось ни единого обличительного враждебного крика, когда, по обычаю, царь остановился у Лобного места, московской трибуны, с которой несколько дней назад Василий Шуйский объявлял народу о несомненной смерти Дмитрия и самозванстве того, кто воспользовался его именем. Духовный сын иезуитов явился в Кремлевские храмы исповедовать преданность вере отцов, а пока Благовещенский протопоп Терентий, очень речистый оратор, приветствовал монарха и испрашивал у него прощения народу, жертве долголетнего обмана и лжесвидетельств; одни только польские спутники победителя по своему простодушию нечаянно нарушили праздничное настроение. Выстроенные для парада на паперти храма, они, стараясь угодить, усердно заиграли на трубах. Набожность и ревность москвичей встревожились. А Терентий, как нарочно, намекал в своей речи на опасность иностранных влияний; отдаваясь телом и душой сыну Грозного, народ рассчитывал безраздельно обладать им. Затем торжественное шествие мирно закончилось, – Дмитрий вступил в жилище предков. По дороге он не пошел мимо дома Бориса, распорядившись немедленно разрушить его; праху похитителя власти предстояло покинуть Архангельский собор и занять место на более скромном кладбище. Законный наследник Грозного очищал от посторонних свое жилище.
Однако на Красной площади по удалении царя произошло какое-то замешательство; чем-то проявилось присутствие сторонников павшей династии; ведь посланный царем Богдан Бельский вынужден был целовать крест в том, что сейчас приветствовали сына Ивана IV и Марии Нагой. Его клятвы не встретили возражений. Летопись называет только одного протестовавшего. Он прибыл издалека и выступил на другой день после торжества. Епископ астраханский Феодосий уже обратил на себя внимание энергичными протестами против претендента. Привезенный в Москву, он, будто бы, в присутствии Дмитрия отстаивал свои взгляды: – «Бог знает, кто ты, ибо истинный царевич убит в Угличе».[208 - Чтение Общ. И. и Др. Рос. 1847, IX, 2 ч., ст. 17 и 1848, IV, 65–66.]
История не сообщает, какой ответственности подвергся отважный иерарх, – и это уже указывает на неправдоподобность самого происшествия. Судя по той же легенде, Феодосий и не думал отождествлять царя с Гришкой Отрепьевым, а Дмитрий вовсе не боялся встреч с лицами, знавшими бывшего дьякона, и поспешил вернуть из ссылки архимандрита Пафнутия и поселить его в самой Москве в сане митрополита. Вообще духовенство легко и без оговорок признало новый порядок.[209 - См. проникнутые этим духом Записки Арсения, арх. Элассонского, в Трудах Киев. Дух. Ак., янв. – март 1898 г., изд. Дмитревского, стр. 100–116. Ср. Карамзин. История Государства Российского, XI, прим. 377.] Может быть, Феодосий стремился наследовать Иову. Но первым из русских иерархов, признавшим права претендента, когда он еще стоял в Туле, был рязанский архиепископ, грек Игнатий, до того архиепископ острова Кипра, что возвышало его права по службе. Впоследствии духовные и светские историки нашли другую причину его избрания, объявив его тайным приверженцем Рима. Когда Дмитрий погиб, Игнатий, действительно, удалился в Польшу, получил пенсию от Сигизмунда и вступил в унию. Но нельзя утверждать, что он и раньше готовился к ней; послание нового патриарха при вступлении его на престол, обращающее к Творцу мольбы – «воздвигнуть десницу царскую над неверными и католиками», по-видимому, не допускает таких подозрений.[210 - Левицкий. Патриарх Игнатий. «Странник», окт. 1881 г., стр. 195. Макарий. История русской церкви, X, 108.] Этот выбор объясняется проявлением самодержавной власти, но вместе с тем он совершился и путем законного избрания.[211 - Записки Арсения в вышеук. сборнике.]
С этой стороны Дмитрию вначале нечего было бояться оппозиции, которой он не смог бы сразу подавить. Подобно своим товарищам, Василий Иванович Шуйский не мог похвалиться приемом в Серпухове. К нему самому могли отнестись особенно нелюбезно. Можно думать, хотя у нас и нет вполне ясных указаний, что он подготовлял заговор еще ранее въезда Дмитрия и привлек к нему представителей высшего московского купечества, сторонников своего рода. Неудачная попытка была открыта, виновник ее арестован и предан суду трибунала, который некоторые историки называют «собором». Многие выдающиеся умы в России, тоскуя по представительному строю, злоупотребляют этим термином, приятным сердцу. Вероятно, Шуйского судило назначенное на этот случай собрание высших духовных и светских чинов. В характере приговора не могло быть сомнений, – следователь по Угличскому делу пошел сложить голову на плахе.
Но тут Дмитрий внезапно и резко отклонился от своей первоначальной политики. С приемных дней в Серпухове он как бы решился идти по стопам отца, опираясь на народную массу, на ее несомненную преданность, которая противопоставлялась честолюбивым проискам бояр. Эта политика при тогдашних условиях была бы, пожалуй, лучшей, если бы выдерживалась с необходимой последовательностью; но ее-то Дмитрию недоставало. Очень способный, он не был ни гением, ни даже выдающимся человеком. Из этого можно вывести лишний довод в пользу его подлинности: чтобы сыграть опытным актером ту роль, которая привела его в Кремль, гениальность пришлась бы весьма кстати. Шуйский уже положил голову на плаху, объявив, по одним свидетельствам, Дмитрия лжецом и самозванцем, по другим, наоборот, взывал к милости монарха, когда ему объявили помилование. Толпа роптала, лишившись зрелища, которое напоминало ей обычные картины времен Грозного, и обвиняла поляков, будто бы причинивших ей это разочарование. Письмо Дмитрию от его польского секретаря, Яна Бучинского, показывает, что ни он, ни его земляки непричастны к этому делу.[212 - Собрание государственных грамот и договоров, II, № 121. В том же смысле: Борша, Рус. Ист. Биб., I, 399. В противоположном: Niemojewski, Pami(tnik, стр. 117.] Сын Ивана IV просто поддался своему слабому и великодушному нраву, отчасти и влиянию окруживших его могущественных бояр, родных и друзей Шуйского, близости которых он теперь не мог избежать. Как увидим далее, он все более и более склонялся к сближению с этим элементом, чтобы сделать его опорой своего правительства. Отправленный в ссылку с обоими братьями, Василий Иванович уже на дороге был настигнуть гонцом с царской милостью; его вернули в Москву и возвратили ему честь и имущество. Дмитрий, очевидно, отвертывался от отцовских преданий. Он рассчитывал ласками привлечь к себе тех, кого так жестоко теснил Грозный. Он мирволил даже заговорщикам.
Торжество опьяняло его; оно слишком легко досталось. Ведь он вступил в Москву, не пролив капли крови! Восторжествовав над попытками обличений, одно его имя открыло ему все двери и все сердца. У него было в руках средство еще более блестяще укрепить свои права. Ожидался приезд его матери. Он выбрал одного из Шуйских, Михаила Васильевича из линии Скопиных, чтобы извлечь заключенную из ее отдаленного монастыря. В конце июля Марфа приближалась к стенам столицы; Дмитрий выехал ей навстречу в Тайнинское среди громадного стечения зрителей. Свидетельства опять расходятся относительно подробностей этого свидания, напоминающего сцену из «Пророка» на обратных ролях; по-видимому, в нежных излияниях чувств не было недостатка.
Не так распорядились в Новгороде-Северском. Его гарнизон получил подкрепления. Воеводы Н. П. Трубецкой и П. Ф. Басманов опоздали на выручку Чернигова и вернулись сюда с войском, набранным частью в Москве, частью здесь же, в окрестностях. Под его стенами нашествие приостановилось; несколько недель подряд нападающие истощали свои силы на бесплодные приступы. Польские гусары не могли справиться с защищенными артиллерией фортами, а досада Дмитрия еще более раздражала их. Осада затягивалась; отдельные отряды под командой отважных партизан продвигались вперед, до самого Путивля, а мятежное настроение быстро разливалось по всей области. Сдавались другие города; по «Крымской дороге» в Московию проникали запоздавшие казаки и действовали со своей стороны довольно успешно. В большинстве городов по дороге они находили очень жалкие гарнизоны из казаков других служб, которые без сопротивления братались с товарищами. В две недели Путивль, Рыльск, Севск с уездом, Курск, Кромы, за ними Белгород и Царево-Борисов, огромные территории по бассейнам Десны, Сейма, Северского Донца, до верховья Оки признали «истинным царем» того, кто осаждал Новгород-Северский.[185 - Никоновская летопись, VIII, 60–61 и Русск. Ист. Библ. XIII, 26; Акты Западной России, IV, 280–281; Акты Юшкова в Чтениях Общ. Ист. и Древ. Росс., 1898, III; Собрание государственных грамот и договоров, II, № 80; Сборн. лет. к ист. южн. и зап. Рос., 78; Борша, Русск. Ист. Библ., I; Записки Паерле, Маржерета и т. д. Ср. Платонов. Очерки по истории смуты. 261–263.]
Под стенами неприступной крепости его силы непрерывно росли; не только прибывали польские волонтеры и казаки – такие представители польской аристократии, как Яков Струс с 1 000 всадников, князь Рожинский с несколькими сотнями, девять тысяч донских казаков и три тысячи запорожцев,[186 - Darowsky, Kraj 1898, № 47.] – но являлись и дворяне московские, и даже, важный показатель успеха, – дьяки с казной, которой снабдил их Борис для содержания своих войск. Из Путивля и других сдавшихся городов привезли пушки. Судя по одному письму из Чернигова от 11-го ноября 1604 г., Дмитрий располагал уже 38 000 людей.[187 - Рукописи Библиотеки Замойских в Варшаве, т. VIII, № 31.]
Между тем главные силы Бориса еще только сосредоточивались в Брянске, на полпути между Смоленском и Северщиной. В Москве потеряли много дорогого времени в колебаниях, не решаясь остановиться на определенном плане обороны ввиду неизвестности, в которой находились относительно характера и направления наступлений, с которыми приходилось бороться. Долгое время не допускали мысли, чтобы претендент осмелился один пуститься в такой поход, и боялись вмешательства Польши. Думали было сосредоточить войска у р. Сосны близ Ливен, чтобы остановить у степей казаков, шедших на соединение с Дмитрием. Когда же этот план нашли неудачным, и пришлось подумать о защите Кром, главного узла дорог, этот город оказался уже занятым.
У Брянска войска собирались крайне медленно, и, когда в конце декабря первый отряд под командой кн. Ф. И. Мстиславского подошел к Новгороду, силы Дмитрия могли дать серьезный отпор. Польская кавалерия на этот раз проявила чудеса храбрости; тяжело раненый воевода Бориса после больших потерь ударил отбой и поспешно отступил. Легко понять, что эта блестящая победа произвела сильное впечатление; однако, последствия ее тяжело отозвались на претенденте. Главные виновники торжества, поляки, опьяненные успехом, проявили свой непокорный и задорный нрав: они потребовали немедленной уплаты всего жалованья, заявили и другие несуразные претензии. Их обычная бурливость, вероятно, еще усиливалась от неприятного сознания, что число их начинает тонуть среди массы казаков и московских людей, постоянный прилив которых ослаблял их влияние в стане Дмитрия. Да и сам новообращенный католик, благодаря такой поддержке, снимал личину, становившуюся все более и более неуместной. Большая часть государства готовилась признать его царем, и он понемногу освобождался от польского влияния. Продолжал ли он потихоньку исповедываться, как свидетельствует дневник патера Лавицкого? Это возможно. Рим еще не сказал своего последнего слова. Публично претендент выказывал гораздо больше почтения Курской иконе Божией Матери. Наконец, как ни были храбры земляки Мнишека, но зимние походы не входили в их привычки. Они объявили, что желают вернуться домой. Претендент тщетно расточал свою плохо пополнявшуюся казну и унизительные мольбы, «бил челом», «падал крыжем» перед дезертирами, чтобы побудить их отказаться от своего намерения. Ему отвечали оскорблениями. – «Ты самозванец и умрешь на колу»,[188 - Борша. Дневник, Русск. Ист. Библ., I, 382.] – выкрикнул один шляхтич. На это Дмитрий ответил пощечиной. Рука у него была тяжелая и ловкая; послышались одобрения казаков, и размашистый ответ немного поправил его пошатнувшийся престиж. Но ухода поляков не удалось остановить.
Еще под Черниговом сам Мнишек заговорил о возвращении. Под Новгородом он написал почти отчаянное письмо киевскому епископу, жалуясь, что ожидаемые из Польши подкрепления не приходят.[189 - 3 дек. 1604, список с него имеется в библиотеке Замойских в Варшаве.] Теперь он присоединился к беглецам, ссылаясь на приказание короля и на необходимость присутствовать на сейме, чтобы отстаивать интересы своего будущего зятя. Когда не хватило казны, поляки пытались увезти соболью шубу «господарчика», и русским пришлось выкупать это одеяние! Осталось несколько плохо вооруженных эскадронов под начальством нового командира, Адама Дворжицкого; иные покорно вернулись или были заменены новобранцами; польский отряд так растаял, что по прибытии в Москву его целиком могли разместить по пристройкам посольского двора. Силы Дмитрия ослабели; с приближением главной армии Бориса ему пришлось снять осаду Новгорода. Проходя через Севск по местности, где все крепости уже принадлежали ему, он пытался пробраться в Кромы. Там он мог бы обойти неприятеля слева и продолжать путь на Тулу и Калугу. Но царские воеводы пошли за ним по пятам и, вероятно, заставили его принять битву на р. Севе между Добрыничами и Чемлигом. Войска встретились 20 янв. (31 н. с.) 1605 г.; отсутствие великолепных гусар очень жестоко отозвалось на Дмитрии. Отважный до дерзости, всегда готовый жертвовать собой, Дмитрий знал, что ставит на карту свою судьбу; он не щадил себя, сражаясь как простой воин; но он не мог спасти от полного поражения своей армии, охваченной паническим страхом при первом натиске врага. Отброшенный на юг, к Сейму, он не мог удержаться у Рыльска и бежал до Путивля. По свидетельству Маржерета, служившего в войске Бориса, виновниками разгрома оказались поляки, оставшиеся верными претенденту. Испуганные «залпами 10-ти или 12-ти тысяч пищалей», они первые смешались. Но более правдивый свидетель, сам Дмитрий, в письме от 18 апреля 1605 г. винит во всем запорожских казаков, и Борша, его лейтенант, в самом деле упоминает о казаках, которых царевич пытался вернуть к битве ударами своей сабли.[190 - Маржерет, стр. 78; Русск. Ист. Библ., I, 387; Pierling. La Russie et le Saint-Si?ge. III, 139.]
Как бы то ни было, поражение было полное до того, что не оставалось, по-видимому, надежды на успех. По одному источнику, претендент уже пытался было вернуться в Польшу. Его остановили московские люди, которым был невыгоден такой оборот дела; они желали довести до конца рискованное предприятие. Исход был бы несомненным, если бы воеводы Бориса вполне воспользовались победой и поспешили преследовать его до Путивля, чем бы и заставили отступить за рубеж. Щедро награжденные царем, осыпанные почестями и подарками, они впоследствии подверглись обвинениям в неблагодарности, даже в уговоре с изменниками, которые способствовали первым успехам претендента. И все-таки под Добрыничами они проявили преданную верность своему правительству: победив, энергично преследовали врага до Рыльска, который осадили. Но зимняя пора, обилие лесов и враждебное отношение населения, которое еще обострялось карательными мерами, очень затрудняли военные действия. Подобно польским ополченцам, московские войска, хотя более их послушные, даже и летом не выдерживали продолжительного пребывания в строю. Оставались ли они победителями или побежденными, они одинаково стремились на покой. Под Рыльском ряды их так быстро таяли, что Мстиславский думал совсем распустить их, отложив борьбу до нового похода. Его остановил решительный приказ Бориса. Мстиславский должен был заместить Ф. И. Шереметева, чтобы продолжать осаду Кром. Но ему пришлось иметь дело с деморализованной армией, в которую скоро проник дух измены.
Восстание в областях юго-западного рубежа, которого в Москве не предвидели, подняло большое стратегическое значение Кром, и после битвы при Добрыничах именно здесь, вопреки ожиданиям, должна была решиться судьба династии Годуновых. Вею весну 1606 г. боролись из-за этого пункта, откуда казаки легко могли угрожать тылу московской армии; для Дмитрия же потеря его закрывала пути к Калуге. Вынужденный идти правым берегом р. Оки, он встретил бы на переправах ряд сильных укреплений, защищавших доступ к столице.
Сооруженный в 1595 г., этот маленький городок сыграл роль Плевны. Господствуя над левым берегом р. Кромы, он был окружен болотами, через которые проходила всего одна дорога. Самый город с посадом были укреплены по образцу московских крепостей: снаружи высокий и широкий земляной вал и такая же бревенчатая стена внутри с башнями и бойницами. Весь гарнизон состоял из 200 стрельцов и немногих казаков. Начав осаду в конце 1604 г., Шереметев вел ее без успеха до марта, когда к нему присоединились главные силы Бориса и скоро завладели земляным городом; самый кремль частью сожгли, частью разрушили. Но осажденные казаки оказывали стойкое сопротивление, скрываясь, как кроты, в подземных траншеях. Ими командовал известный атаман Корела, слывший колдуном, вероятно, уроженец Курляндии,[191 - Из Кексгольма, по-русски Корела.] маленький человек, весь в рубцах от заживших ран. Борис прислал подкрепления, состоявшие из посохи, крестьянского ополчения без военной подготовки. Казаки Корелы гораздо лучше его выносили все лишения и тягости зимнего времени. Они привезли с собой много саней, служивших передвижной защитой, куда заботливо прятали запасы, сухари и водку. Забившись в норы, они пили и пели песни, а по временам выбирались из логовищ, чтобы смутить осаждающих меткостью своих долгоствольных мушкетов или просто побахвалиться. С ними были женщины; разгулявшись после выпивки, осажденные заставляли несчастных взбираться на полуразрушенные стены и, подняв платья, показывать врагам мягкие части тела, в знак особого презрения и обидного издевательства.
Пока тянулась осада, между сторонами завелись и менее враждебные отношения. Начали обмениваться вестями, прикрепляя записки к стрелам. Когда у осажденных не хватило пороху, они нашли его в мешках, подброшенных в траншеи поближе к смелым стрелкам.[192 - Костомаров. Смутное время, I, 179.] Вслед за битвой при Добрыничах, когда, по-видимому, все повернулось против Дмитрия, подготовилась иная, неожиданная для всех развязка.
Под защитой Кром Дмитрий не терял времени в Путивле. Его разведчики проникали всюду от равнин Днепра до Уральских гор и Крымских степей, бродили вдоль Дона, Волги, Терека и Яика, всюду возбуждая население и набирая из воинственных племен местные ополчения. Заявляя Рангони, что в апреле и мае 1605 г. он добился содействия большинства татарских[193 - Pierling. La Russie et le Saint-Si?ge, III, 139.] орд, претендент, несомненно, прихвастнул: мусульмане все время мало способствовали его успехам. Широковещательность и похвальба были ему свойственны. Потеря Кром еще грозила разрушить его расчеты, а он не стеснялся говорить и действовать как победитель. Он письменно обратился к Борису с перечислением его преступлений, как похитителя престола, и великодушно обещал прощение в награду за немедленную покорность. В посольстве к Сигизмунду он выражал сожаление, что часть подданных короля покинули «своего царя», и просил его дальнейшего содействия.[194 - Костомаров. Смутное время, I, 143.] Тут много ребяческой кичливости. Татары не двигались. Только прилив казаков не прекращался. Присутствие в Путивле подлинного Гришки Отрепьева вполне установлено источниками; оно очень привлекало военные силы; а Дмитрий уже думал о реформах в своем будущем государстве.
В тайных беседах, которыми он жаловал своих польских духовников, его любимой темой, по их словам, был план полного преобразования старой Московии со стороны вероисповедания и культуры. Он мечтал о немедленном учреждении начальных и средних школ, даже академий. Сын Грозного разделял мнения и чувства своего отца, не считал монахов полезными сотрудниками, и поэтому находил необходимым выписать учителей из-за границы. Но учеников тоже могли не найти. Ну, тогда и их на первый случай тоже можно выписать из Германии и Англии! – Увы, в этих беседах будущий преобразователь, углубляясь в себя, замечал свою собственную слабость; его научный и литературный багаж очень скуден, составлен из спутанных обрывков элементарных знаний: плохо затверженные тексты из св. писания, смутные понятия из истории и географии: его неясные ссылки на Филиппа и Александра, Константина и Максенция, рискованные обращения к Геродоту и Фукидиду напоминают смятение мыслей Ивана IV-го. У Дмитрия была охота к знанию и приемы любознательного человека. Даже на коротких остановках на его столе появлялась географическая карта, и он умел ею пользоваться. Согнувшись над картой, он высматривал караванный путь в Индию по землям, принадлежавшим Москве или подпавшим ее влиянию, сравнивал сухопутный маршрут с морским путем вокруг мыса Доброй Надежды и находил его более удобным. Но достаточно ли этих знаний для той роли просветителя, на которую он претендовал, не нужны ли прежде всего ему самому те учителя, которых он готовил для будущих подданных? Да, несомненно! А где их найти? А два духовника, не пригодятся ли они? Эти иезуиты должны быть учеными людьми. Дмитрий тотчас привлекает их к делу. Он видит книгу под рукой патера Андрея. Это том Квинтиллиана. Да здравствует риторика! Он требует, чтобы обладатель драгоценного сборника перевел ему несколько страниц, и сейчас, не медля ни минуты.
Приблизительно так же будет поступать и Петр Великий. Увлеченный новизной, нетерпеливый ученик требовал правильных занятий: утром посвящали час уроку философии, вечером час грамматике и словесности. Решили преподавать на польском языке; чтобы облегчить ученику работу, секретарь записывал уроки и давал ему в переводе. Эти подробности очень ценны ввиду тех легенд, которым долго верили. Обманщик, воспитанный в Польше под ферулой сынов Лойолы, очевидно, не нуждался бы в таких занятиях. Дмитрий же проходил одни только эти импровизированные курсы в Путивле. Он себя прекрасно держал перед учителями, – отвечал уроки очень серьезно, стоя и с непокрытой головой.[195 - Pierling. La Russie et le Saint-Si?ge, III, по дневнику патера Лавицкого.]
Этот опыт продолжался очень недолго. Готовясь к предстоящим обязанностям, Дмитрий погрузился на время в приятные мечты, пока окружавшие его московиты жестоко не разбудили его. Еще время не настало пробивать окно в стене, отделявшей его родину от образованной Европы. Через сто лет за это дело возьмется другой, более способный работник. Теперь же претендент еще не настолько господин положения, чтобы безнаказанно разыгрывать школьника; казаки отнеслись подозрительно к его занятиям мирскими науками, и очень враждебно к сближению царя с сообщниками сатаны, чье присутствие в стане православных было уже соблазном. Да и немало других забот скопилось у последователя Квинтиллиана. Через несколько дней уроки прекратились. Но представьте себе психологию простака, беглеца из Чудова монастыря, увлекшегося хотя бы случайно диковинками знания, в бурное время с такой живостью ума проявившего интерес к благородным занятиям, такое глубокое и верное понимание ответственной роли, которую брал на себя.
Утвердившись победителем в Москве, Гришка Отрепьев поискал бы иных развлечений. В Путивле Дмитрий еще не мог свободно развернуться. Как он ни разыгрывал государя, сколько ни снаряжал посольств, как ни развенчивал Бориса, переименовав Борис-город в Царьгород, новая царская резиденция все оставалась местечком, и Путивль ничем не напоминал столицу. Если бы Борис поспешно прислал новое подкрепление под Кромы и дал возможность воеводам захватить это логовище кротов, претенденту ничего бы другого не оставалось, как направиться в Рим, как того желал Остророг, и потребовать там награды за свое обращение.
Но жених Марины еще не исчерпал всех счастливых случайностей. В первые дни мая под Кромы принеслось известие о непредвиденном трагическом событии; для претендента оно равнялось значение выигранного сражения, и в такое время, когда он не мог бы отважиться на открытый бой.
V. Победа
Борис как будто не уяснил себе, какая гроза разражалась над его головой. Он отказывался понимать, как это горсть казаков и поляков-авантюристов, искателей приключений, могла взаправду угрожать его государству. Под Добрыничами его воеводы без труда разгромили шайку бунтовщиков; отчего же они не довели дела до конца? Он строжайше наказывал немедленно схватить лже-царевича, а в ответ получил неприятные донесения о постыдной осаде, которую выдерживала горсть разбойников против целой армии царя. Всегда подозрительный, он предчувствовал измену и потерял сон и здоровье. 13 (23) апреля 1605 г.[196 - Число это указано официальными документами, Собрание государственных грамот и договоров, II, № 83 и Попов, Изборник, 327, и подтверждается Маржеретом. Но надпись в Троице-Серг. Лавре указывает на 1 мая.] по выходе из-за стола у него открылось сильное кровотечение, и через несколько часов он скончался. Простой случай, убийство или самоубийство? Во время этого неожиданного происшествия обсуждались всевозможные предположения, и до сих пор еще ни на одном из них нельзя остановиться. Случаи кровотечения, когда кровь лила изо рта, носа, ушей и даже глаз, довольно часто встречались тогда в России; их обыкновенно приписывали отраве. Предположение о самоубийстве Бориса преобладало во мнении современников, но они сообщают такую драматическую окраску последним минутам государя, что их рассказы подозрительны.[197 - Никоновская летопись, VIII, 64; др. лет. известия Русск. Ист. Библ., XIII, 39, 159, 492, 533, 574, 727, 806. Rer. Ross. Script. ext., I, 31, 172; Новгородская летопись, 471; Карамзин. История Государства Российского, XI, прим. 105. См. др. источники Hirschberg. Dymitr Samozwaniec, стр. 109 и след.]
Такое же разноречие, сохранившееся до наших дней, проявлялось и в суждениях о личности высокого покойника. – Intravit ut vulpes, regnavit ut leo, mortuus est ut canis,[198 - «Вошел как лисица, царствовал как лев, умер как собака».] сказал немец Буссов вместо надгробного слова. Не щадили Бориса Годунова ни современные ему летописцы, ни народная поэзия: – он коршун, хищная птица, он глупец, воображавший, что может править Русью, обманывая бояр.[199 - Киреевский. Сб. нар. песен, II, 2.] Историки того времени тоже неблагосклонны к нему, но они все-таки пытались разобраться в чертах физиономии необыкновенного человека и темных сторонах его жизни и отыскать более верный путь и в превратностях света и тени; их преемники продолжают эти попытки, колеблясь между менее резкими, но все еще очень затруднительными противоречиями. Надеюсь, что читатели этой книги получили некоторую возможность составить себе об этом предмете более ясное и определенное представление. Всегда связанный, наконец задушенный цепью злоключений, узел которых он сам затянул в Угличе, ни во время борьбы за власть, ни тем более в немногие смутные годы царствования сам венчанный временщик так и не сумел вполне раскрыть свои несомненные сильные дарования.
Умирая, он оставил двоих детей, сына и дочь, в очень опасном положении. Сын, 18-летний Феодор, считался одаренным умом и способностями. Борис постарался дать ему далеко не то образование, какое получали по обычаю дети московских государей. Он выписал для сына иностранных учителей, рано приучал юношу к понимание правительственных дел; судя по сохранившимся официальным документам, отец ничем не пренебрегал, чтобы укрепить за ним престол, и еще при жизни приблизил его к обязанностям и почестям власти. Дочь его Ксения славилась красотой, и даже с избытком, к своему несчастью, как увидим далее. Оба, брат с сестрой, могли привлечь к себе общее сочувствие; но Борис так энергично устранял своих соперников и всех, кто казался ему опасным, что вокруг него и его семьи образовалась какая-то пустота. Из пяти братьев Романовых трое умерли в ссылке; Филарет жил в монастыре в заключении; пятый, Иван, вернулся из Сибири совершенно разбитым. Богдан Бельский и Симеон Бекбулатович были тоже в ссылке, последний к тому же лишен зрения. Умер Андрей Щелкалов, последний видный член семьи, уже вследствие опалы своей главы отодвинутой на задний план. Из потомков Рюрика и Гедимина Шуйские, Голицыны и Мстиславские считались не опасными. Борис не стеснялся назначать их в походы против претендента. Не опасаясь их, он не мог, однако, рассчитывать на особое усердие с их стороны; и маленький круг лиц, в чьей преданности он мог быть уверен, состоял из нескольких приближенных, незначительных личностей, как Сабуровы и Вельяминовы, даже ничтожных, требовавших поддержки, как Плещеевы или новейший фаворит, молодой честолюбец Петр Феодорович Басманов, из древнего, но незнатного боярского рода. В кружке не было ни одного сильного человека.
Феодор спокойно занял отцовский престол, когда мать его, царица Марья Григорьевна, подобно Ирине, уступила слезным мольбам всего народа и согласилась на воцарение сына. Эта театральная церемония записывалась в грамоту и по заведенному обычаю входила в содержание государственного акта. Новый царь тотчас решился на меру, перед которой отступал Борис. Бездеятельность Шуйского и Мстиславского под Кромами показалась подозрительной; он поспешил отозвать их, а взамен наметил Басманова. Но при армии состояли двое Голицыных, Василий и Иван Васильевичи; могли возникнуть местнические счеты, и потому к новому воеводе-главнокомандующему назначили для почета кн. М. П. Катырева-Ростовского.
Отправляясь на службу, Басманов, по-видимому, стремился оправдать оказанное ему доверие. Укрепить верность войск – его первая задача; он привел их к присяге новому государю. Но я уже указал, что формула присяги показалась сомнительной. Она только усилила шаткость мыслей, давно проявлявшуюся среди воинов; и Басманов не мог пренебречь таким предупреждением. Иные подозревали, что войско – flos et robur totius Moscoviae,[200 - «Цвет и ядро всей Московии».] как его называл патер Лавицкий, – уже вело сношения с Дмитрием. Это неправдоподобно. Войско было просто деморализовано и склонно к измене, вследствие соприкосновения с мятежным волнующимся населением области, среди которой велась борьба. Оно подчинялось влиянию мятежной среды, давление людских масс, увлеченных таинственной легендой, движимых отвращением к бедственным государственным порядкам и надеждой на лучшее будущее, наконец, заманчивой мечтой – приобрести что-нибудь при разделе наследия побежденных; – смесь законных порывов и темных страстей, обычные двигатели великих народных волнений.
Выдвинутые против претендента военные силы растворялись в этом брожении; смерть Бориса и смена командующих ускорили ход событий, и поворот в обратную сторону проявился вдруг среди темных трудно объяснимых условий.
По словам летописи, Басманов, братья Голицыны и М. Г. Салтыков провозгласили низложение Феодора и воцарение Дмитрия 17-го мая 1605 г. (стар. ст.) на собрании созванных ими представителей четырех городов – Рязани, Тулы, Каширы и Алексина. Разрядная книга, подтверждая это свидетельство, называет еще одно действующее лицо, нам уже известное – Прокопия Ляпунова. Современник Грозного Петр Ляпунов, его пятеро сыновей – Григорий, Прокопий, Захар, Александр и Степан, и два племянника, Семен и Василий, принадлежали к очень влиятельной семье служилых людей рязанской области, чрезвычайно подвижной и деятельной, хотя не возбуждающей симпатий. Мы видели некоторых ее членов во главе мятежа, вспыхнувшего вслед за смертью Ивана IV; позже все они выдвинутся в самые бурные моменты «Смутного времени», наступающего теперь при их вероятном содействии. В правление Бориса Захар дважды, в 1595 и 1603 гг., подвергался строгой каре за разные проступки: местнические ссоры и преступные сношения с непокорными казаками. Следует думать, что он вместе с братьями возбуждал и направлял местное мятежное движение, перед которым отступили Басманов и другие воеводы.
Главная масса войск играла пассивную роль в этих происшествиях; немецкая конница желала сохранить верность своим обязательствам, а князь Телятевский даже упорно защищал вверенную ему артиллерию и затем спасся в Москву. По одному рассказу, повторяющемуся в других сказаниях иностранцев, Дмитрий ускорил переворот очень грубой выдумкой. Осаждающим дали возможность перехватить письмо, адресованное им в Кромы; из него узнали, что польский король присылает Жолкевского, который приближается с 40 000 поляков. Один из офицеров претендента, Ян Запорский, отправленный в то же время в Кромы с отрядом в 1 000 человек, не знает этой подробности, но уверяет, что расстроил московское войско, захватил сто пушек, чем и побудил его сдаться.[201 - См. это свидетельство и несогласное с ним известие другого поляка – сторонника Дмитрия – Вислуха, у Hirschberg, Dymitr Samozwaniec, p. 113.] Это, очевидно, басни; в этом случае Ляпуновы лучше послужили на пользу пострадавшего при Добрыничах. Василий Голицын с Басмановым, по некоторым свидетельствам, оказывали только притворное сопротивление народной массе, велели себя даже связать на всякий случай, чтобы лучше прикрыть измену.[202 - Никоновская летопись, VIII, 66.] Наоборот, Маржерет обвиняет Василий Ивановича Голицына и Басманова в том, что они сами велели связать других воевод. А Василий Иванович Голицын отсутствовал! Как всегда, известия сбивчивы и противоречивы.
Дмитрий был извещен о смерти Бориса 5-го мая молодым сыном боярским Авраамом Бахметьевым, служившим в царском войске под Кромами, что и подало знак к отложению. 22-го мая многолюдное посольство с кн. Иваном Голицыным во главе привезло в Путивль изъявления покорности и верноподданнических чувств всей армии. Один путешественник записал слухи о некоторых условиях, предварительно предложенных претенденту и принятых им. То был Петр Аркудиус, родом из Корфу, присланный Римским двором в Польшу с миссией, частью политической, частью научной, не имевшей непосредственного отношения к Московии. Проекты конституционных договоров со слабыми преемниками Грозного носились в воздухе, как мы знаем. Они вспыхивали во время избрания Бориса; они станут на очередь во все критические моменты, какие предстоит переживать московской системе централизации и принципу самодержавия до самого воцарения Романовых. Но войско, сдающееся без битвы, не может предписывать условий; ни один источник не подтверждает подобного факта, к тому же не оставившего следа в позднейших событиях.[203 - Pierling. La Russie et le Saint-Si?ge, II, 375, III, 169.]
Победитель, не выигравший, со своей стороны, сражений, не проявивший до сих пор талантов полководца, Дмитрий показал себя с лучшей стороны как политик. Чтобы воспользоваться своим торжеством, он не нуждался в войсках, так плохо служивших делу Бориса. Он поспешил их распустить, кроме небольшого отряда, который направил в Орел. Исполнение этих распоряжений было возложено на кн. Бориса Михайловича Лыкова, старинного друга Романовых и будущего мужа дочери Никиты Романовича; выбор знаменательный. Затем, не теряя времени, 26-го мая претендент двинулся вперед со своими казаками и поляками. По словам очевидца, не доверяя донцам и запорожцам, он заботливо отдалял их от своих шатров и окружал себя исключительно польской стражей. Но очевидец был сам поляк![204 - Борша. Рос. Ист. Библ., I, 396—7.]
На дороге из Путивля в Москву через Орел и Тулу только гарнизоны Калуги и Серпухова оказали некоторое сопротивление победителю. Под стенами Серпухова он стоял в тех же шатрах, в которых семь лет назад Борис изумлял великолепием татарское посольство. Вокруг Дмитрия образовался уже двор; он начинал править. В Москве же еще существовали царь и правительство; там захватывали и казнили послов Дмитрия. Простонародье столицы, чернь, после смерти Бориса постоянно волновалась. Пытавшихся ее успокоить бояр она смущала нескромными вопросами о царевиче Дмитрии и Гришке Отрепьеве и требовала подробных сведений о катастрофе в Угличе. Но до измены войск под Кромами с этими беспорядками кое-как справлялись. Угличский следователь, кн. Василий Иванович Шуйский, выходя на Лобное место, клятвенно уверял, что сына Марии Нагой нет в живых. После событий в Кромах положение быстро ухудшалось. Грозный мятеж осложнялся паникой. Прошел слух, что атаман-чародей Корела уже стоит под стенами столицы. Богатые люди прятали свои сокровища; они одинаково боялись и казаков и черни. Начальство все-таки пыталось организовать оборону, вооружая стрельцов, устанавливая батареи по стенам. Но приказания плохо исполнялись, а толпа смеялась над ними.
10-го июня 1605 г. два гонца Дмитрия, Наум Плещеев и Гаврила Пушкин, появились в Красном Селе, предместье столицы, населенном давнишними врагами Годуновых, купцами и ремесленниками. Гонцам тотчас же предложили провести их в город. Отряд стрельцов явился было загородить им путь, но быстро рассеялся, и оба беспрепятственно прибыли на Лобное место. Народ тотчас собрался и выслушал содержание письма претендента к боярам.[205 - Акты археографической комиссии, II, 80.] Этим все кончилось; судьба Годуновых была решена. Патриарх умолял бояр вступиться и помочь; но тут, говорит иностранец Пеер Персон, который, впрочем, один только и сообщает этот факт, Василий Иванович Шуйский отрекся от своих слов и объявил, что царевич Дмитрий спасся от смерти. Позднейшие события указывают только на быстро установившееся соглашение между мятежниками и теми, кому поручали их успокоить. Толпа хлынула в Кремль; захваченные народными волнами бояре явились туда же и даже руководили арестом Феодора. Вместе с матерью и сестрой его заключили в дом Бориса, где они жили до его воцарения. Тогда же арестовали всех их родственников и друзей.
Но чернь не могла этим удовлетвориться. Ее страсть к насилиям разгоралась; мужики разграбили и разнесли дома заключенных. И этого было мало. По тайному приказу, нашептанному неугомонным Богданом Бельским, который вернулся из ссылки по смерти Бориса, рассвирепевшие мстители набросились на иностранцев, особенно яростно на немецких врачей царя. Эти продавцы разных снадобий имели богатые погреба. Толпа бросилась в них и подогрелась на новые бесчинства.
Бояре смогли проявить свою власть только тем, что отправили посольство в Серпухов. В его состав вошли представители, высшей московской знати, кн. Ф. И. Мстиславский, кн. И. М. Воротынский, сам Василий: Иванович Шуйский с братьями, Дмитрием и Иваном. Высокие господа встретились в стане претендента с депутацией донских казаков, и Дмитрий дерзнул оказать почет донцам, допустив их первыми к руке. Уже после них ввели бояр, которых он встретил строгой речью. Более чем сомнительно, чтобы Гришка Отрепьев осмелился при подобных обстоятельствах вести себя в таком духе.
Узнав еще в Туле о покорности столицы, царевич, теперь признанный царем, выслал часть своей армии под начальством Басманова, чтобы занять ее; заведование делами он поручил кн. В. В. Голицыну с двумя товарищами, кн. Василием Рубцем-Масальским и дьяком Сутуповым, которые раньше выслужились тем, что сдали ему Путивль. Отправляясь в Москву ранее своего повелителя, они, несомненно, получили приказания, как поступить с Годуновыми; смысл их неизвестен, но не хочется верить, чтобы они предрешали ужасную участь, постигшую несчастную семью.
VI. Судьба побежденных
Голицын с товарищами прежде всего устранили патриарха Иова; его схватили во время службы в Успенском соборе и простым монахом отправили в монастырь г. Старицы. Родственников Феодора тогда же развезли в ссылку по разным местам, а самого предприимчивого из них, Семена Годунова, задушили в Переяславле. Что произошло в доме, где жил с близкими низложенный царь – дело очень темное; истина тонет в новом наплыве противоречивых сообщений. По преданию, этот дом принадлежал мрачной памяти Малюте Скуратову;[206 - Впоследствии, по приказу Дмитрия, все постройки были снесены; дворовое место в 1869 г. перешло в собственность Им. Об-ва люб. древ. письменности. См. Иконников. Опыт русской историографии. I, 2 ч., 1017.] он полон страшных воспоминаний; народное воображение населило его кровавыми привидениями. 6-го июня 1605 г. его стены сделались свидетелями новой отвратительной трагедии. Здесь был убит Феодор, задушен подушками или размозжен дубиной после долгой борьбы. Смелый и сильный, он упорно боролся с нападавшими, приставами Масальского, среди которых отличился бывший дьяк двора Грозного Андрей Шерефединов, пользовавшийся дурной славой.[207 - Никоновская летопись, VIII, 69–70. Различные свидетельства передают ужасные и отвратительные подробности, неудобопередаваемые. Сравн. Hirschberg, Dymitr Samozwaniec, 122. Автор считает Дмитрия непричастным к этой расправе, ссылаясь на Буссова, который дает более позднюю дату посылки Масальского с товарищами. Но более допустимо, что Буссов ошибался, ввиду других очень точных указаний на это время.] Борис отстранял его от дел. Дмитрий, наоборот, наделил его на ту пору особыми полномочиями, характер которых, однако, нам неизвестен.
Вдова Бориса не пережила сына; ее убили вместе с ним, если она сама не покончила с собой. Ксения, отравленная или отравившаяся, едва не умерла. Вовремя данное противоядие спасло ее для более тяжкой доли. До Дмитрия давно дошел слух о ее прелестях, прославляемых всеми современниками. Это был тип заурядной русской красавицы, с очень белой кожей, ярким румянцем, алыми губами и длинными волосами, пышными косами падавшими по плечам; она, подобно брату, получила тщательное образование. Она правильно писала, приятно пела, обладая прекрасным голосом. – «Ее тело было словно из сливок», говорит восторженный летописец, «а брови ее сходились». Новый повелитель России не мог не оценить такой красоты. Уже целый год, как из-за любви он только подписывал дарственные грамоты; Марина же была далеко. Когда тело Феодора и его матери отвезли в Варсонофьевский монастырь, что на Сретенке, чтобы предать земле, как бедняков, кн. Масальский приберегал Ксению у себя или у верного пособника, – «для потехи повелителя». – Дмитрий царствовал.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
На высоте
I. Восшествие на престол
20 июня 1605 г. солнце ярко горело на лучезарном небе, и сердца людей радостно играли. Все население столицы высыпало из жилищ. Самые крыши домов расцветились принаряженными горожанами; люди, как грозди, висели на деревьях. Медленно тянулись часы ожидания; тысячи глаз впивались в далекий горизонт на востоке, и в глубине внимательной, напряженно-сосредоточенной, как в храме, народной массы разгоралась лихорадка радостного нетерпения. Наконец на Коломенской дороге показалось облако, сквозь которое посверкивали огненные полоски. Загрохотали пушки, и тотчас словно колоссальная волна пронеслась по людям, пригибая к земле, как бы стирая взволнованный народ, обращая в ковер трепещущего мяса быстро склонившиеся тела; когда все лежали распростертыми, прижимая лбы к земле, от этого пыльного слоя рабов колоссальный вопль вознесся к небу: «Челом бьем нашему красному солнышку!»
Затмевая великолепием светило небесное, «красное солнышко» появилось на левом берегу р. Москвы среди пышного поезда: стрельцы в раззолоченных красных кафтанах, русские всадники, сияя золотом и каменьями, польские гусары в блестящем вооружении окружали роскошной рамкой величественный строй русского духовенства. «Солнышко» приближалось в сиянии величия и могущества.
– «Дай тебе Бог здоровья!» – кричала толпа, вся трепещущая в прилив страстной преданности, с плачем и рыданиями изливая в воплях свое счастье, свою любовь. Приподнимаясь на стременах, Дмитрий отвечал: – «Дай Бог вам тоже здоровья и благополучия. Встаньте и молитесь за меня!» – Он прибыл! Переехав мост, он вступил на Красную площадь и приближался ко дворцу, из которого его так позорно изгнали 20 лет тому назад. Но вдруг небо помрачилось; порыв вихря, подняв густую тучу песку, точно накинул траурный покров на ликующее великолепие празднества.
– «Господи, помилуй нас!» – шептали мужики, крестясь и пересуживая между собой мрачное знамение.
Предвестник бедствия, которого никто еще тогда не мог предвидеть, вмешательство атмосферического явления могло быть и выдумано впоследствии догадливым летописцем. Куда ужаснее была бы буря, как бы нарушила она торжественное вступление новообретенного царя в отвоеванную столицу, если бы из этой самой распростертой при его проходе толпы десять, сто голосов выкрикнули:
– «Прочь! Ты не тот, кого мы ожидали, кому посылали приветы и благословения! Мы тебя узнаем! Мы слушали твой голос за аналоем, пили с тобою по кабакам! Ты – не Дмитрий: тот, без сомнения, умер и не вернется. Ты – Гришка Отрепьев!»
Но ни одна летопись не помнить таких нестройных криков; да и мудрено им было раздаться! – Ведь бывший дьякон Чудова монастыря был тут же, следуя за всеми признанным обожаемым господином, и обменивался знаками с былыми собутыльниками и случайными товарищами! Не раздалось ни единого обличительного враждебного крика, когда, по обычаю, царь остановился у Лобного места, московской трибуны, с которой несколько дней назад Василий Шуйский объявлял народу о несомненной смерти Дмитрия и самозванстве того, кто воспользовался его именем. Духовный сын иезуитов явился в Кремлевские храмы исповедовать преданность вере отцов, а пока Благовещенский протопоп Терентий, очень речистый оратор, приветствовал монарха и испрашивал у него прощения народу, жертве долголетнего обмана и лжесвидетельств; одни только польские спутники победителя по своему простодушию нечаянно нарушили праздничное настроение. Выстроенные для парада на паперти храма, они, стараясь угодить, усердно заиграли на трубах. Набожность и ревность москвичей встревожились. А Терентий, как нарочно, намекал в своей речи на опасность иностранных влияний; отдаваясь телом и душой сыну Грозного, народ рассчитывал безраздельно обладать им. Затем торжественное шествие мирно закончилось, – Дмитрий вступил в жилище предков. По дороге он не пошел мимо дома Бориса, распорядившись немедленно разрушить его; праху похитителя власти предстояло покинуть Архангельский собор и занять место на более скромном кладбище. Законный наследник Грозного очищал от посторонних свое жилище.
Однако на Красной площади по удалении царя произошло какое-то замешательство; чем-то проявилось присутствие сторонников павшей династии; ведь посланный царем Богдан Бельский вынужден был целовать крест в том, что сейчас приветствовали сына Ивана IV и Марии Нагой. Его клятвы не встретили возражений. Летопись называет только одного протестовавшего. Он прибыл издалека и выступил на другой день после торжества. Епископ астраханский Феодосий уже обратил на себя внимание энергичными протестами против претендента. Привезенный в Москву, он, будто бы, в присутствии Дмитрия отстаивал свои взгляды: – «Бог знает, кто ты, ибо истинный царевич убит в Угличе».[208 - Чтение Общ. И. и Др. Рос. 1847, IX, 2 ч., ст. 17 и 1848, IV, 65–66.]
История не сообщает, какой ответственности подвергся отважный иерарх, – и это уже указывает на неправдоподобность самого происшествия. Судя по той же легенде, Феодосий и не думал отождествлять царя с Гришкой Отрепьевым, а Дмитрий вовсе не боялся встреч с лицами, знавшими бывшего дьякона, и поспешил вернуть из ссылки архимандрита Пафнутия и поселить его в самой Москве в сане митрополита. Вообще духовенство легко и без оговорок признало новый порядок.[209 - См. проникнутые этим духом Записки Арсения, арх. Элассонского, в Трудах Киев. Дух. Ак., янв. – март 1898 г., изд. Дмитревского, стр. 100–116. Ср. Карамзин. История Государства Российского, XI, прим. 377.] Может быть, Феодосий стремился наследовать Иову. Но первым из русских иерархов, признавшим права претендента, когда он еще стоял в Туле, был рязанский архиепископ, грек Игнатий, до того архиепископ острова Кипра, что возвышало его права по службе. Впоследствии духовные и светские историки нашли другую причину его избрания, объявив его тайным приверженцем Рима. Когда Дмитрий погиб, Игнатий, действительно, удалился в Польшу, получил пенсию от Сигизмунда и вступил в унию. Но нельзя утверждать, что он и раньше готовился к ней; послание нового патриарха при вступлении его на престол, обращающее к Творцу мольбы – «воздвигнуть десницу царскую над неверными и католиками», по-видимому, не допускает таких подозрений.[210 - Левицкий. Патриарх Игнатий. «Странник», окт. 1881 г., стр. 195. Макарий. История русской церкви, X, 108.] Этот выбор объясняется проявлением самодержавной власти, но вместе с тем он совершился и путем законного избрания.[211 - Записки Арсения в вышеук. сборнике.]
С этой стороны Дмитрию вначале нечего было бояться оппозиции, которой он не смог бы сразу подавить. Подобно своим товарищам, Василий Иванович Шуйский не мог похвалиться приемом в Серпухове. К нему самому могли отнестись особенно нелюбезно. Можно думать, хотя у нас и нет вполне ясных указаний, что он подготовлял заговор еще ранее въезда Дмитрия и привлек к нему представителей высшего московского купечества, сторонников своего рода. Неудачная попытка была открыта, виновник ее арестован и предан суду трибунала, который некоторые историки называют «собором». Многие выдающиеся умы в России, тоскуя по представительному строю, злоупотребляют этим термином, приятным сердцу. Вероятно, Шуйского судило назначенное на этот случай собрание высших духовных и светских чинов. В характере приговора не могло быть сомнений, – следователь по Угличскому делу пошел сложить голову на плахе.
Но тут Дмитрий внезапно и резко отклонился от своей первоначальной политики. С приемных дней в Серпухове он как бы решился идти по стопам отца, опираясь на народную массу, на ее несомненную преданность, которая противопоставлялась честолюбивым проискам бояр. Эта политика при тогдашних условиях была бы, пожалуй, лучшей, если бы выдерживалась с необходимой последовательностью; но ее-то Дмитрию недоставало. Очень способный, он не был ни гением, ни даже выдающимся человеком. Из этого можно вывести лишний довод в пользу его подлинности: чтобы сыграть опытным актером ту роль, которая привела его в Кремль, гениальность пришлась бы весьма кстати. Шуйский уже положил голову на плаху, объявив, по одним свидетельствам, Дмитрия лжецом и самозванцем, по другим, наоборот, взывал к милости монарха, когда ему объявили помилование. Толпа роптала, лишившись зрелища, которое напоминало ей обычные картины времен Грозного, и обвиняла поляков, будто бы причинивших ей это разочарование. Письмо Дмитрию от его польского секретаря, Яна Бучинского, показывает, что ни он, ни его земляки непричастны к этому делу.[212 - Собрание государственных грамот и договоров, II, № 121. В том же смысле: Борша, Рус. Ист. Биб., I, 399. В противоположном: Niemojewski, Pami(tnik, стр. 117.] Сын Ивана IV просто поддался своему слабому и великодушному нраву, отчасти и влиянию окруживших его могущественных бояр, родных и друзей Шуйского, близости которых он теперь не мог избежать. Как увидим далее, он все более и более склонялся к сближению с этим элементом, чтобы сделать его опорой своего правительства. Отправленный в ссылку с обоими братьями, Василий Иванович уже на дороге был настигнуть гонцом с царской милостью; его вернули в Москву и возвратили ему честь и имущество. Дмитрий, очевидно, отвертывался от отцовских преданий. Он рассчитывал ласками привлечь к себе тех, кого так жестоко теснил Грозный. Он мирволил даже заговорщикам.
Торжество опьяняло его; оно слишком легко досталось. Ведь он вступил в Москву, не пролив капли крови! Восторжествовав над попытками обличений, одно его имя открыло ему все двери и все сердца. У него было в руках средство еще более блестяще укрепить свои права. Ожидался приезд его матери. Он выбрал одного из Шуйских, Михаила Васильевича из линии Скопиных, чтобы извлечь заключенную из ее отдаленного монастыря. В конце июля Марфа приближалась к стенам столицы; Дмитрий выехал ей навстречу в Тайнинское среди громадного стечения зрителей. Свидетельства опять расходятся относительно подробностей этого свидания, напоминающего сцену из «Пророка» на обратных ролях; по-видимому, в нежных излияниях чувств не было недостатка.