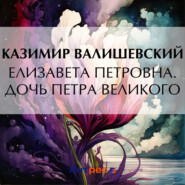По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Иван Грозный
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Новгород со своими 5300 жилых домов до второй половины XVI века занимает первенствующее положение среди русских городов, за исключением Москвы. В одном Пскове, и только в пределах городских стен, не считая пригородов, по данным того времени насчитывалось 1300 лавок и контор. Но те же документы отмечают одно явление, резко выступающее в русской жизни XVI века: городской торговый класс населения быстро уничтожается, его вытесняют и заменяют военные элементы. В Гдове, где торгово-промышленный элемент более сохранился, чем в других городах, списки 1580–1585 г. отмечают только 14 душ представителей этой категории населения.
Исчезновение торгово-промышленного класса было следствием насильственного присоединения областей московскими князьями. Имущество населения покоренных областей массово конфисковалось, конфискованные предприятия часто передавались в другие руки. Это быстро изменило лицо страны до состава общественных элементов и отношений между ними включительно. Новые пришельцы были военными людьми, и в своем завоевательном движении и во внешнем росте Москва сохранила свой первоначальный характер – характер военной колонии в покоренной стране.
Иначе не могло и быть. Новое государство, как и все области его, представляет как бы сплошное поле битвы. Границы его с одной стороны недостаточно установлены, с другой – являются предметом постоянных споров. Из крепостей, защищающих его с северо-запада, Смоленск приобретен лишь в 1514 году, но все еще оставался номинальным центром литовско-польского воеводства. Что касается Великих Лук, то их скоро отнимет у Ивана Стефан Баторий. На северо-востоке колонизация продолжает распространяться вдоль берегов Белого моря, по реке Онеге и от северной Двины до Урала. Но и здесь, в так называемом Поморье, владения пришельцев ограничиваются морскими и речными берегами. С экономической точки зрения главная роль здесь принадлежит монастырям, являющимися не столько рассадниками благочестия, как центрами военной оккупации. Например, Соловецкий монастырь на Белом море имел соляные варницы и богатые рыбные ловли, содержал свою полицию и даже небольшое войско. Далее на восток от Двины заселение только начиналось. Население рассеяно по бедным рыбачьим поселкам. Единственным центром с полугодовой ярмаркой здесь была Лампожня на Мезени. А по ту сторону Мезени тянулись уже совершенно пустынные места.
Следует отметить любопытную подробность.
Укрепленные пункты опоясывали государство, Москва же сохраняла свой прежний характер временной военной стоянки и не была достаточно прикрыта. Хотя Кремль был обнесен зубчатой стеной с башнями, но в нем находились только княжеские дворцы, жилища некоторых бояр, несколько церквей и монастырей, жизнь же столицы шла вне этих стен. Город с его деревянными домами, лавками, рынками, каменным гостиным двором, выстроенным по образцу Левантского базара, раскинулся далеко во все стороны от Кремля. Торговая деятельность шла в обширных пригородах, совершенно открытых или защищенных простым деревянным забором. Дома и лавки посадов, широко разбросанных вокруг и сливавшихся с окружающими полями, чередовались со вспаханными нивами и зелеными лугами.
Торговая жизнь продолжалась также и в обширных слободах, настоящих уже селах, окруженных полями, садами, рощами. По соседству виднелись белые стены оград и золоченые купола монастырских церквей. Этот пестрый полугородской, полудеревенский вид уходил далеко и терялся с глаз у черты горизонта. Эта была настоящая столица государства, которое только выступало на путь исторического развития.
Способ обозначения провинций нового государства, находившегося еще в состоянии образования, соответствовал их переходному характеру.
Тогда говорили: «заокские, закамские города», подразумевая под названием город всю территорию, прилегавшую к известному центральному пункту. Даже центральную область, ядро слагавшегося государства, называли «замосковными городами». Например, Нижний Новгород, недавно приобретенный московскими князьями от младшей линии Мономаховичей, то имел значение центрального пункта, то относился вместе с Арзамасом и Муромом к окраине.
Между тем для зарождавшейся на северо-востоке новой Руси он был как бы вторым Киевом. Здесь те же удобства и красота положения. Когда англичанин Дженкинс в 1558 году отправлялся отсюда с целой флотилией галер на Дальний Восток, казалось, старое время воскресло и киевские князья собираются пуститься по Днепру и совершить свой «путь в Греки». Но все окрестные области до соседнего бассейна Клязьмы были опустошены московским завоеванием.
Страну усеяли развалины. Только Владимир сохранил кое-какие остатки былого величия. Сельское население все же было привязано к земле и не покидало ее, но в городах никого не оставалось, кроме военных отрядов. Это общее явление в новом московском государстве. То же самое замечалось даже в собственно московских областях и обнаруживалось уже в каких-нибудь 100–150 верстах от Москвы. На указанном расстоянии к северу тянется широкий пояс, где военные занятия постоянно совмещаются с мирными. Города Тверь, Ржев, Зубцов, Старица являются здесь стратегическими пунктами. К югу на верховьях р. Москвы и на Оке расположены города Серпухов, Кашира, Коломна, защищавшие переход через эти две реки от угрожавших постоянно набегов степняков.
Далее же за этой чертой тянулось другое пустынное, незаселенное пространство, так называемое дикое поле, куда колонизационное движение направилось только лишь во второй половине XVI века.
Таково было владение, к которому в царствование Ивана IV были присоединены вместе с Казанью, Астраханью и их областями земли по нижнему, среднему течению Волги, по Каме, Вятке и по прибрежью Каспийского моря.
К этим приобретениям после была добавлена загадочная область Казатчины, расположенная между Волгой, Доном, северной частью Донца, низовьями Днепра, представлявшая собой как бы обширный резервуар, куда стекались постоянно из Польши и Московского государства элементы, не поладившие с законом и порядками своего отечества.
Как в том, так и в другом государстве одни и те же политические и социальные законы выбрасывали наружу элементы общественного распада, для которых слишком тесны были нормальный рамки существования благодаря трем вечным силам, как создающим, так и разрушающим общественный порядок. Это – дух мятежа, дух предприимчивости, дух свободы.
Что касается общей численности населения московского государства того времени, мы не имеем никаких данных, чтобы определить ее хотя приблизительно. Даже сведения, касающиеся одной только столицы, настолько расходятся, что нет возможности сделать точный вывод из них.
В 1520 году число домов в ней исчислялось 41 500, что дает возможность предположить, что население равнялось по меньшей мере 100 000 душ. Шестьдесят лет спустя после этого посланный папой в Москву легат Посевин считает более вероятным числом населения 30 000. Правда, в этот промежуток времени Москва подверглась нашествию татар, разрушивших ее до основания. Но такой участи подверглось большинство городов этого государства, где военные схватки все еще продолжали вспыхивать от времени до времени, неся с собой разрушение и изменяя лицо края.
С этнографической точки зрения девять десятых страны имели только то русское население, которое оставила здесь прокатившаяся волна недавнего колонизационного движения. Не было необходимости в то время «скресь» русского, чтобы найти татарина и особенно финна. Основой населения везде являлось финское племя.
Завоевания Грозного и его преемников произвели большие изменения в составе государства. Следы этих изменений мы можем видеть до сих пор на карте Кеппена. Но документальных данных, по которым можно было бы определить роль различных этнографических элементов в государственной жизни изучаемой нами эпохи, мы не имеем. Эта роль обозначается немного яснее лишь в интеллектуальной и моральной жизни страны, о чем речь будет впереди; в политическом же отношении она совершенно ничтожна. Московское господство сгладило всякие следы племенных трений путем удаления и поглощения чуждых элементов.
В социальном отношении разнообразие этнографического состава не проявляется по другим причинам. О московском государстве XVI века нельзя было сказать, что в нем два общества, или больше, живут в союзе или во вражде, так как тогда вовсе еще не существовало обособленных общественных групп.
III. Общественные классы. Аристократия
Среди особенностей, резко отличавших русское государство от Западной Европы, известная школа исторического и политического направления мысли отвечает и подчеркивает отсутствие классовых делений. Другие черты различия заключались в отсутствии в русском государстве феодализма с позднейшим его порождением – рыцарством и его пережитками. Церковь здесь не имеет той светской власти, какой она вооружена на Западе и пользуется ею для борьбы с государством.
Но все эти черты сводятся к одному, указанному уже началу – отсутствии классовых делений в русском обществе.
Подобное явление действительно существует, но оно слишком сложно и в своем проявлении и в причинах, обусловливающих его. Очевидно, что в этой стране, как и во всех других, были сначала богатые и бедные, потом земледельцы и торговцы, городские и сельские жители, – все это различные социальные элементы. Правда, элементы эти не успели еще сложиться в организованные группы. Я постараюсь это пояснить.
Жизнь Ивана IV прошла в борьбе с боярами, представлявшими собой аристократию. Кроме бояр, были и другие аристократические группы. Рядом с боярами стояли потомки древних удельных князей. Одни из них происходили от Рюрика, первого русского князя, другие – от первого князя литовского Гедимина. Занимая первенствующее положение в областном управлении, они добивались господствующего положения.
Некоторые из них происходили от старшей ветви той династии, из которой происходили и московские князья, но по младшей линии. Держась кое-где на остатках своих вотчин, они могли громко заявлять свои претензии и не упускали случая сделать это. Они пользовались некоторыми правами и привилегиями, вытекавшими из их прошлого положения независимых государей. Свои права и привилегии они ожесточенно защищали.
Однако прочтите Судебник 1497 года, изданный дедом Грозного Иваном III. В нем нет ни малейшего следа всех этих прав и привилегий. Все население, за исключением духовенства, разделяется на две категории, где нет ни малейших признаков социального деления и различия, созданного историческими условиями. Судебник знает только «служилых» и «неслужилых людей», – вот и все! Законодатель таким образом свел на нет историческое прошлое, деспотически распоряжаясь покорной массой населения, он и разделил его на эти две категории, соответствовавшие потребностям государственного строя.
В войске не было ни князей, ни мужиков, ни торговцев, ни земледельцев: были солдаты, дядьки, офицеры. Военнопленных обозначают только номерами по порядку. Население московского государства было как бы в военном плену. Служилые– солдаты, помогающие государю «собирать русскую землю». Неслужилые – работники, несущие тяжелую повинность доставлять пропитание армии во время похода. Место, звание, занятие каждого были точно определены служебным листом.
Все в ряд: таков приказ.
Никаких исключений для аристократии.
В первой категории служилых находятся бояре, князья, старшие придворные чины и важнейшие должностные лица. Если они и различались между собой, то только по началу административной подчиненности.
И рядом с ними стоят низшие слуги военного и гражданского ведомства: кузнецы, пушкари, столяры и простые воины. Купцы и земледельцы относятся к другой категории и также безразлично смешиваются и подчиняются одному порядку, возлагающему на них податное бремя. Служилые первого ранга пользуются некоторыми преимуществами: они занимают важнейшие должности, владеют землей; на суде их свидетельству придается больше значения. В случае обиды виновный уплачивает тройную пеню в сравнении с той, какая полагалась, например, за обиду дьяка. Но тот же самый принцип расценки штрафов за преступления против чести распространяется и на все ранги, приспособляясь к степеням и служебному положению.
Остается выяснить, как удалось провести в жизнь эту искусственную группировку и деспотическую классификацию общественных элементов. Очевидно, общественные группы были слабо организованы, так как правительство без затруднения разрывало естественную связь между ними и втискивало их в произвольно созданные рамки. Отсутствие сплоченности у московской аристократии при этом выступает очень ясно. В московском государстве, как и на Западе, ядро аристократии составляли придворные элементы. Филологи до сих пор не пришли к соглашению относительно происхождения слова «боярин». Одни производят его от бой, другие – от бол, болий, больший. Сначала слово боярин обозначало название дружинников, которых можно сопоставить с франкскими антрустионами, англо-саксонскими тенами или министериалами феодальной Германии. Но на Западе взаимоотношения между государем и его вассалами приобрели устойчивый характер, благодаря феодальному строю землевладения, различию общественно-политических функций; там все это закреплялось и освящалось законом, привычкой, обычаем.
Но в московском государстве те же взаимоотношения имели расплывчатый, неопределенный характер, в зависимости от общей неустойчивости среды.
Сам князь долгое время здесь был в некотором роде кочевником. Дружина же его могла или следовать за ним, или оставить его. Князь мог отослать от себя своих сподвижников и они могли его оставить. Никаких обязательств на этот счет не было. Например, в 1149 году волынский князь отправился походом против киевского князя. Дружина ему изменила, оставила его и он потерпел поражение. Принуждения на верную службу тогда не существовало. Когда русская земля раздробилась на множество княжеств, бояре свободно переходили от одного князя к другому, одни из-за личных интересов, другие – просто по капризу. При этом они не теряли никаких прав, так как подобные переходы не считались изменой. Переходившие сохраняли за собой земельные владения и часто отдавали их под покровительство нового князя.
Когда Москва выступила на историческую сцену, она не замедлила воспользоваться этим обычаем. Она видела в нем превосходное орудие для своей политики объединения, средство вызвать ослабление соседних княжеств и усилиться за их счет. Ставши центром национального притяжения, не имея равных себе соперников среди соседних княжеств, она ничем не рисковала при такой политике: все стекались к ней и никто не думал уходить отсюда куда-нибудь в другое княжество. Мало-помалу солнце Москвы притянуло к себе и поглотило осколки мелких светил, которые его окружали.
Так из того, что было выброшено другими, в руках Московских князей образовался слишком мягкий, податливый материал, из которого можно было лепить что угодно.
Окружавшие теперь московского князя бояре не были больше его сотоварищами, разделявшими с ним вместе опасности и победы, они были побежденными, как бы пленниками, оторванными от родной почвы.
Вся аристократия новой северо-восточной Руси, не исключая и той части ее, которая по-прежнему сидела на родовых поместьях, не имела в себе достаточной прочности. Для образования наследственной давности прошло слишком мало времени, чтобы на нее могла опираться аристократия. В феодальных государствах в создавшихся отношениях между сувереном и сеньором, сеньором и сельским населением была полная аналогия и можно сказать, что вассалитет и серваж взаимно друг друга дополняли. Московская же аристократия была в других условиях. Она терялась среди свободного населения, которое в лучшем случае соглашалось работать на крупных землевладельцев задельно, да и то вечно торговалось, вступало в споры.
Как бы то ни было, Москва распоряжалась по-своему этим зыбким материалом и даже придала ему известную устойчивость в военной организации.
IV. Политический и общественный строй. Происхождение абсолютизма
Относительно происхождения и характера московской государственной власти существует несколько различных взглядов. Историческая школа, о которой я уже упоминал выше, считает ее органическим явлением, обусловливаемым характером этой ветви славянской семьи, которую судьба перенесла с родной почвы на далекую чужбину. По взгляду этой школы, только этот строй, в котором проявлялся дух русской народности, соответствовал особенностям нации в области государственного устройства и обеспечивал жизненность созданных ею политических учреждений. Другие славянские государства, организованные на иных началах, иногда были в блестящем состоянии, но оно было кратковременным, благодаря слабости центральной власти, которая не могла препятствовать быстрому росту и усилению аристократии.
Но откуда же явилось у славянской колонии северо-востока расположение к этому именно политическому строю и способность подчиняться ему?
Забелин объясняет развитие самодержавия в московском государстве влиянием Восточной церкви; в учении ее принцип неограниченной патриархальной власти получает полное развитие и освящение. Некоторые же другие историки указываюсь на влияние финского элемента. Но приведенные взгляды историков нельзя считать более или менее удачно разрешающими вопрос. Все они не выдерживают критики.
Влияние церкви было таким сильным и даже более энергичным в киевский период древней Руси, и между тем не видим здесь того сильного единоличного самодержавия, какое развивается в московском государстве к концу XV века. В византийских хронографах, в исторических данных Прокопия, императора Льва, Дитмара Мерзебургского мы встречаем указание, что у славян существовали народные собрания и обладали или полнотой власти, или хотя некоторыми ее прерогативами. Русские славяне не представляли собой исключения.
По свидетельству Нестора, они даже совсем обходились без княжеской власти.
Позднее, в одиннадцатом веке, мы находим те же самые демократические учреждения в Киеве, Новгороде, Смоленске и Полоцке. Вече (вече производное слово от глагола вещати) функционируют на всем пространстве русской земли, хотя компетенция их и не везде одинакова. В одних местах им принадлежит вся верховная власть; в других они пользуются только правом избрания князя. Более или менее широкое участие их в политических функциях власти существовало везде. Сохранение их прав обеспечивалось договорами – рядами с князьями и грамотами последних.
Самодержавие в своей первоначальной форме не было синонимом абсолютной власти. Московский самодержец – это двойник византийского autocrat'a, но власть византийского самодержавного императора разделялась между ним и духовенством. Московское духовенство также долго считало самодержавие символом независимости от иностранных государств. Если не народные, то по крайней мере права церкви здесь оставались еще нетронутыми. Тем не менее название самодержавный могло повести к опасному смешению понятий, что и случилось сначала на северо-востоке страны, где князья Суздальские и Рязанские силой установили династическое наследование престола на основании первородства. Таким образом был нанесен удар народоправству (суверенитету народа), и нужно сказать, что еще до появления татар на Руси принцип народовластия сильно пострадал. Оно сохранилось только кое-где в виде исключения. В полной неприкосновенности оно осталось только в Новгороде и Пскове почти до конца XV века; в других же местах оно было или совсем уничтожено, или подверглось существенным ограничениям еще в начале XIII века.
Монгольское владычество оказало на усиление московского самодержавия не больше влияния, чем Византия. Правда, в отношениях между правителем и подданными оно внесло существенные изменения. Раньше положение князя зависело от народа, теперь оно обусловливалось капризом нового владыки-хана. Теперь путешествие на берега нижней Волги с богатыми подарками имело больше значения, чем народное избрание. Князь возвращался из путешествия с ярлыком, избавлявшим его от необходимости искать другой способ достижения власти. Флорентийская уния и падение Константинополя оказали влияние в том же направлении. До конца XIV века церковь знала только одного царя. Это был император византийский. Московское духовенство поминало его в молитвах при богослужении «императором русским» и «государем всего мира». После указанных событий нужно было перенести этот титул на кого-нибудь, и естественно, московские князья получили его.
Все эти случайности играли, можно сказать, второстепенную роль и не имели решительного влияния на ход вещей. Что же касается влияния на организацию русской государственной власти финского элемента, то отсутствие его очевидно. Правда, бывают случаи, когда покоренные передают победителям свои порядки и нравы, но это возможно только лишь в том случае, когда побежденные стоят в культурном отношении выше своих победителей. Подобное предположение вполне допустимо. Но нужно принять во внимание, что русские колонисты тринадцатого и четырнадцатого века, хотя и были варварами, все-таки стояли выше в культурном отношении тех финских племен, с которыми им приходилось сталкиваться во вновь заселяемой стране. Не одной же ведь только численностью покоряли они их.
Ключ к разрешению загадки, на мой взгляд, заключается во взаимодействии двух отмеченных уже явлений: отсутствии расчленения в русском обществе и его военном переустройстве, какому оно подверглось, благодаря обстоятельствам, сопровождавшим его первоначальное образование и развитие в новом северо-восточном государстве. Русская колонизация долго продолжалась в чужой стране; переселенцы были окружены врагами. Князь был начальником войска и естественно пользовался своим выгодным положением, чтобы уменьшить и без того незначительную связь между общественными элементами. Последние своей слабостью сами помогали усилению его всемогущества.