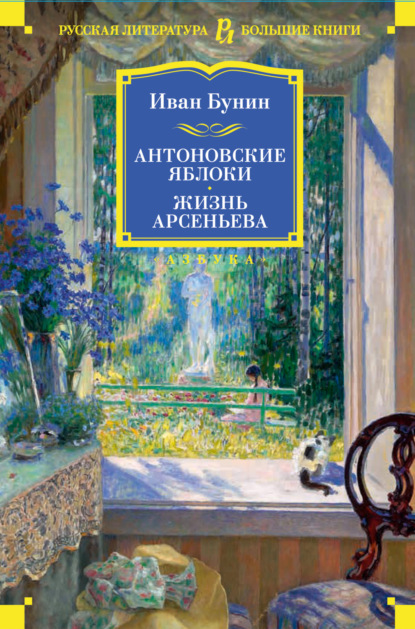По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Антоновские яблоки. Жизнь Арсеньева
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Примечательно, что все обитатели «Атлантиды» – люди без имен. Имена Бунин дает только простым итальянцам: коридорному слуге Луиджи, танцорам Кармелле и Джузеппе, лодочнику Лоренцо. Неаполь и Капри представлены Буниным как противоположный полюс изображенного мира, полюс бедной, но естественной и гармоничной жизни.
На пароходе, развлекая пассажиров, танцует красивая фальшивая пара, нанятая «играть в любовь за хорошие деньги». На Капри два простых итальянца, спускаясь с гор, останавливаются у иконы Богоматери и поют «наивные и смиренно-радостные хвалы ‹…› солнцу, утру, ей, непорочной заступнице всех страждущих в этом злом и прекрасном мире, и рожденному от чрева ее в пещере Вифлеемской, в бедном пастушеском приюте, в далекой земле Иудиной…» (Бунин вспоминал: «…Взволновался я и писал даже сквозь восторженные слезы только то место, где идут и славословят Мадонну запоньяры».)
Слуги на пароходе невидимы и безответны. Бойкий коридорный Луиджи, с «гримасами ужаса», «с притворной робостью, с доведенной до идиотизма почтительностью», на самом деле смеется над господином.
«Огненные несметные глаза» верхних этажей и «багровое пламя» в утробе парохода противопоставлены совсем иной цветовой гамме: «Шли они – и целая страна, радостная, прекрасная, солнечная, простиралась под ними: и каменистые горбы острова, который почти весь лежал у их ног, и та сказочная синева, в которой плавал он, и сияющие утренние пары над морем к востоку, под ослепительным солнцем, которое уже жарко грело, поднимаясь все выше и выше, и туманно-лазурные, еще по-утреннему зыбкие массивы Италии, ее близких и далеких гор, красоту которых бессильно выразить человеческое слово».
«Господина из Сан-Франциско» называют самым толстовским рассказом Бунина. Действительно, у позднего Толстого есть прямо перекликающиеся с бунинскими повесть «Смерть Ивана Ильича» и притча «Много ли человеку земли нужно?». Как и Толстой, Бунин противопоставляет фальшь богатства естественному простодушию простых людей. Подобно Толстому, Бунин сатирически смотрит на цивилизацию, которую благословляет Дьявол.
Бунин изображает ужас внезапной смерти. Но столь же ужасно-бессмысленна оказалась жизнь господина из Сан-Франциско, который только собирался жить, который думал, что ему покорен весь мир, но ему оказывается достаточно лишь ящика, большого и длинного ящика. «Мертвый остался в темноте, синие звезды глядели на него с неба, сверчок с грустной беззаботностью запел на стене…»
В «Господине из Сан-Франциско» Бунин вызывает на Страшный суд всю европейскую цивилизацию. Рассказ становится притчей о фальши современного мира, который на корабле «Атлантида», созданном гордыней Нового Человека, под предводительством языческого идола-капитана плывет в неизвестное будущее, сопровождаемый пристальным взглядом Дьявола, и оставляет за кормой прекрасную солнечную страну и смиренную молитву.
Звук этого рассказа-притчи – мрачное предупреждение: «В самом низу, в подводной утробе „Атлантиды“, тускло блистали сталью, сипели паром и сочились кипятком и маслом тысячепудовые громады котлов и всяческих других машин, той кухни, раскаляемой исподу адскими топками, в которой варилось движение корабля… А средина „Атлантиды“, столовые и бальные залы ее изливали свет и радость, гудели говором нарядной толпы, благоухали свежими цветами, пели струнным оркестром. И опять мучительно извивалась и порою судорожно сталкивалась среди этой толпы, среди блеска огней, шелков, бриллиантов и обнаженных женских плеч, тонкая и гибкая пара нанятых влюбленных: грешно-скромная девушка с опущенными ресницами, с невинной прической, и рослый молодой человек с черными, как бы приклеенными волосами, бледный от пудры, в изящнейшей лакированной обуви, в узком, с длинными фалдами, фраке – красавец, похожий на огромную пиявку. И никто не знал ни того, что уже давно наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой под бесстыдно-грустную музыку, ни того, что стоит глубоко, глубоко под ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и знойными недрами корабля, тяжко одолевавшего мрак, океан, вьюгу…»
РЕВОЛЮЦИЯ: ОКАЯННЫЕ ДНИ
Бунин великолепно знал деревенскую жизнь, как в деталях (одного критика он упрекал в том, что тот не может отличить рожь от пшеницы, и даже Чехову возражал, что в дворянских имениях никогда не было сплошь вишневых садов и они не росли около дома), так и в ее социальной и психологической сути. Автор жестоких и беспощадных повестей «Деревня» (1910) и «Суходол» (1911) не мог поэтому с энтузиазмом воспринимать ни мировую войну, ни Февральскую революцию, ни тем более революцию Октябрьскую. «Радость жизни убита войной, революцией», – записано в дневнике 22 октября 1917 года, за несколько дней до новой, третьей революции.
Бунин оказался одним из самых яростных, непримиримых противников Октября. Важным документом эпохи стала книга «Окаянные дни», дневник московских (1918) и одесских (1919) наблюдений революционных лет. Она была опубликована за границей, при советской власти упоминалась только в негативном контексте, а в СССР была напечатана лишь через семьдесят лет, в 1989 году, накануне исчезновения государства, возникшего в результате Октябрьской революции.
Во взгляде на революцию реалист Бунин и символист Блок вдруг оказались не только эстетическими, но и идейными антиподами.
Блок услышал в произошедшем музыку революции, Бунин – какофонию бунта. «Блок слышит Россию и революцию, как ветер…» «О, словоблуды! Реки крови, море слез, а им все нипочем».
Блок видел простодушное стихийное творчество восставшего народа. Бунин – кровавое безумие и повальное сумасшествие, вдохновляемое новой властью. «Разве многие не знали, что революция есть только кровавая игра в перемену местами, всегда кончающаяся только тем, что народ, даже если ему и удалось некоторое время посидеть, попировать и побушевать на господском месте, всегда в конце концов попадает из огня да в полымя? Главарями наиболее умными и хитрыми вполне сознательно приготовлена была издевательская вывеска: „Свобода, братство, равенство, социализм, коммунизм!“ И вывеска эта еще долго будет висеть – пока совсем крепко не усядутся они на шею народа».
Блок мечтал о грядущей «справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизни». Бунин оплакивал прошлую жизнь, на которую он недавно смотрел трезвым, беспощадным взглядом, как счастливую и прекрасную, как утраченный Эдем, земной русский рай.
Блок написал символическую поэму, привычно переводя проблему в философский, метафизический план. Бунин, забыв о художестве, впервые обратился к прямому слову, к публицистике, поражая читателя множеством жестоких деталей и резких оценок.
Блок остался и умер в России. Бунин в 1920 году вместе с остатками разгромленных белых войск на пароходе покинул Одессу. Как оказалось – навсегда.
«Вдруг я совсем очнулся, вдруг меня озарило: да, так вот оно что – я в Черном море, я на чужом пароходе, я зачем-то плыву в Константинополь, России – конец, да и всему, всей моей прежней жизни тоже конец, даже если и случится чудо и мы не погибнем в этой злой и ледяной пучине! Только как же это я не понимал, не понял этого раньше?» («Конец», 1921).
Эти строчки были написаны уже во Франции, в Париже, где писателю довелось провести больше тридцати лет, всю оставшуюся жизнь.
В ИЗГНАНИИ: ЛЕТОПИСЕЦ РУССКОЙ АТЛАНТИДЫ
«Это было давно, это было бесконечно давно, потому что та жизнь, которой все мы жили в то время, не вернется уже вовеки… Казалось, что нет, да никогда и не было, ни времени, ни деления его на века, на годы в этой забытой – или благословенной – Богом стране. ‹…› Прелесть была в том, что все мы были дети своей родины и были все вместе и всем нам было хорошо, спокойно и любовно без ясного понимания своих чувств, ибо их и не надо, не должно понимать, когда они есть. И еще в том была (уже совсем не сознаваемая нами тогда) прелесть, что эта родина, этот наш общий дом была – Россия и что только ее душа могла петь так, как пели косцы в этом откликающемся на каждый их вздох березовом лесу» («Косцы», 1921).
Достаточно сравнить этот образ России с теми картинами, которые сам Бунин рисовал в «Ночном разговоре», «Чаше жизни», «Деревне», как обнаружится его поэтический, идеализированный характер. Но именно такая Россия нужна писателю как точка опоры в перевернувшемся мире.
Бунин провел во Франции много лет. Большую часть года он с В. Н. Буниной жил в Париже, лето обычно проводил на юге, в Ницце. Но французские темы и сюжеты, даже жизнь русских эмигрантов, почти не нашли отражения в его прозе. Прекрасная Франция была для Бунина местом жизни, но не источником творчества.
Прежние социальные мотивы также почти исчезают из бунинского творчества. Оставаясь непримиримым к новой власти и к новому государству, СССР, в своем творчестве Бунин, к счастью, забывал и о царе, и о большевиках, и о миссии русской эмиграции, и о развращенных, позабывших «заветы» писателях-современниках. Он уже не воспроизводил с натуры, а заново воссоздавал дореволюционный мир, который невозможно было сверить с оригиналом.
Старая Россия, ушедшая на дно, как Атлантида, сохраняется в бунинской прозе в ее красоте и своеобразии.
«Что вообще остается в человеке от целой прожитой жизни?» – спрашивает Бунин. И сразу же отвечает: «Только мысль, только знание, что вот было тогда-то то-то и то-то, да некоторые разрозненные видения, некоторые чувства. Мы живем всем тем, чем живем, лишь в той мере, в какой постигаем цену того, чем живем. Обычно эта цена очень мала: возвышается она лишь в минуты восторга – восторга счастия или несчастия, яркого сознания приобретения или потери; еще – в минуты поэтического преображения прошлого в памяти».
Это одушевление, поэтическое преображение прошлого в памяти становится теперь главной задачей Бунина. «Мой отец, моя мать, братья, Маша пока в некотором роде существуют – в моей памяти. Когда умру, им полный конец… Все живее становится для меня мое прошлое… Боже, как все вижу, чувствую!» (дневник, 22 сентября 1942 г.).
Еще в большей степени, чем раньше, Бунин ощущает себя последним художником. Причем художником, философией которого становятся зрение и слух – краски, запахи, звуки и голоса прекрасного божьего мира. Эту Россию в красках Бунин и унес с собой в эмиграцию и живописал до последних дней жизни.
«ЖИЗНЬ АРСЕНЬЕВА»: ФОРМУЛА ПАМЯТИ
«Жизнь Арсеньева. Юность» (1927–1929, 1933), одна из двух главных бунинских книг эмигрантской эпохи, открывается торжественной фразой из книги старообрядца-проповедника XVIII века Ивана Филиппова – своеобразным эпиграфом, варьирующим мотив памяти: «Вещи и дела, аще не написанiи бывают, тмою покрываются и гробу беспамятства предаются, написавшiи же яко одушевленiи…»
Книга вырастает на личном материале. В этом смысле она продолжает традицию художественных автобиографий («Семейная хроника» С. Т. Аксакова, «Детство», «Отрочество», «Юность» Л. Н. Толстого, «История моего современника» В. Г. Короленко, «Детство», «В людях», «Мои университеты» М. Горького), унесенную в изгнание. Параллельно с Буниным, в те же десятилетия, пишутся «Детство Никиты» А. Толстого, «Юнкера» А. Куприна, «Богомолье» И. Шмелева, чуть позднее – «Времена» М. Осоргина.
Однако, не отрицая связи жизни Алексея Арсеньева с собственной жизнью (в книге легко узнаются отец писателя Алексей Николаевич, братья Юлий и Евгений, обстоятельства мучительного романа с Варварой Пащенко), Бунин все время протестовал против чисто биографического прочтения. «Вот думают, что история Арсеньева – моя собственная жизнь. А ведь это не так. Не могу я правды писать. Выдумал я и мою героиню. И до того вошел в ее жизнь, что поверил в то, что она существовала, и влюбился в нее. Да ведь как влюбился… Беру перо в руки и плачу. Потом начал видеть ее во сне. Она являлась ко мне такая же, какой я ее выдумал… Проснулся однажды и думаю: Господи, да ведь это, быть может, главная моя любовь за всю жизнь. А оказывается, ее не было…» – рассказывал он одному собеседнику (А. Седых).
Но в другом интервью признавал: «Можно при желании считать этот роман и автобиографией, так как для меня всякий искренний роман – автобиография. И в этом случае можно было бы сказать, что я всегда автобиографичен. В любом произведении находят отражение мои чувства. Это, во-первых, оживляет работу, а во-вторых, напоминает мне молодость, юность и жизнь в ту пору».
Это противоречие – между писателями от жизни и писателями выдумки, – на котором часто играют недалекие критики и которое, с другой стороны, является вечным хлебом биографического метода, разрешает результат – убедительно созданный художественный мир. Для читателя – особенно через десятилетия и тем паче столетия безразлично, из какого сора, из пережитого или «из головы», возникли эти события и персонажи. Главное, что они есть. С ними можно плакать или смеяться, увидеть в их жизни собственную.
Бунин, скорее, писатель первого типа. Тем отчаяннее он защищал права воображения. Но его художественная задача в «Жизни Арсеньева» не исчерпывается рассказом о том, как это было.
Это не просто роман одной жизни, детство-отрочество-юность Алексея Арсеньева, но книга о рождении художника. Не случайно расхождение с Ликой в значительной степени начинается с литературных вопросов. Она совершенно не понимает ни восхищения Арсеньева чужими стихами, ни его собственных попыток.
«Я часто читал ей стихи.
– Послушай, это изумительно! – восклицал я. – „Уноси мою душу в звенящую даль, где, как месяц над рощей, печаль!“
Но она изумления не испытывала.
– Да, это очень хорошо, – говорила она, уютно лежа на диване, подложив обе руки под щеку, глядя искоса, тихо и безразлично. – Но почему „как месяц над рощей“? Это Фет? У него вообще слишком много описаний природы.
Я негодовал: описаний! – пускался доказывать, что нет никакой отдельной от нас природы, что каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни. Она смеялась:
– Это только пауки, миленький, так живут!»
Сходную реакцию вызывает и рассказ о случае из собственной жизни: «Ну, миленький, о чем же тут писать? Что ж все погоду описывать!»
Рассказчик печально резюмирует: «Я страстно желал делиться с ней наслаждением своей наблюдательности, изощрением в этой наблюдательности, хотел заразить ее своим беспощадным отношением к окружающему и с отчаянием видел, что выходит нечто совершенно противоположное моему желанию сделать ее соучастницей своих чувств и мыслей» (книга пятая, глава VIII).
Изображая этот процесс, Бунин действительно многое выдумывает, существенно корректирует свой творческий путь. В 1890–1910-е годы ему совсем не чужды социальные мотивы. Но начинающий Арсеньев, мучимый желанием «писать что-то совсем другое, совсем не то, что я мог писать и писал», демонстративно иронизирует по поводу общественных задач литературы: «Зажигались фонари, тепло освещались окна магазинов, чернели фигуры идущих по тротуарам, вечер синел, как синька, в городе становилось сладко, уютно… Я, как сыщик, преследовал то одного, то другого прохожего, глядя на его спину, на его калоши, стараясь что-то понять, поймать в нем, войти в него… Писать! Вот о крышах, о калошах, о спинах надо писать, а вовсе не затем, чтобы бороться с произволом и насилием, защищать угнетенных и обездоленных, давать яркие типы, рисовать широкие картины общественности, современности, ее настроений и течений!»
И чуть дальше совсем уж наглядно, прямолинейно, демонстративно: «„Социальные контрасты!“ – думал я едко, в пику кому-то, проходя в свете и блеске витрины… На Московской я заходил в извозчичью чайную, сидел в ее говоре, тесноте и парном тепле, смотрел на мясистые алые лица, на рыжие бороды, на ржавый шелушащийся поднос, на котором стояли передо мной два белых чайника с мокрыми веревочками, привязанными к их крышечкам и ручкам… Наблюдение народного быта? Ошибаетесь, – только вот этого подноса, этой мокрой веревочки!» (книга пятая, глава XI).
Из наблюдения этой мокрой веревочки рождается то, что литературоведы называют феноменологическим романом и сравнивают с эпопеей М. Пруста, которого Бунин, по его признанию, в начале работы над книгой еще не читал. «„Жизнь Арсеньева“ – это не воспоминание о жизни, а воссоздание своего восприятия жизни и переживание этого восприятия (то есть новое „восприятие восприятия“). Жизнь сама по себе как таковая вне ее апперцепции и переживания не существует, объект и субъект слиты неразрывно, в одном едином контексте… Прошлое заново переживается в момент писания, и потому в „романе“ Бунина мы находим не мертвое „повествовательное время“ традиционных романов, а живое время повествователя, схваченное и зафиксированное (и оживающее каждый раз снова перед читателем) – во всей его неотразимой непосредственности» (Ю. Мальцев).
Стоит добавить, однако, что это живое время воспринимается не в зыбкой неопределенности и эфемерности, а в бурном потоке, бесконечном ливне подробностей, которые размывают и без того простую фабулу. Если присмотреться, к этой мокрой веревочке – всего-навсего в одном предложении – привязаны еще около десятка подробностей. Без них веревочка не стала бы столь демонстративной.
Бунинская память в первую очередь зрительна, наглядна, предметна. Из этой материи памяти рождается все остальное.
«Мое новое возвращение под отчий кров было уже не похоже на то, что было три года тому назад. На все я смотрел теперь другими глазами. И все в Батурине оказалось еще хуже, чем я представлял себе в дороге: убогие избы деревни, дикарские лохматые собаки и дикарские обледенелые водовозки возле порогов, вросших в железную грязь, колчи этой грязи по проезду к усадьбе, пустой двор перед угрюмым домом с печальными окнами, с нелепо высокой и тяжкой крышей времен дедов и прадедов и двумя темными от навесов крыльцами, дерево которых сизо от древности, – все старое, какое-то заброшенное, бесцельное – и бесцельный холодный ветер гнет верхушку заветной ели, торчащей из-за крыши дома, из жалкого в своей зимней наготе сада…» (книга пятая, глава XXX). Кажется, начав описывать, перечислять, Бунин уже не может остановиться: в этот бесконечный период можно втянуть всю книгу.
На пароходе, развлекая пассажиров, танцует красивая фальшивая пара, нанятая «играть в любовь за хорошие деньги». На Капри два простых итальянца, спускаясь с гор, останавливаются у иконы Богоматери и поют «наивные и смиренно-радостные хвалы ‹…› солнцу, утру, ей, непорочной заступнице всех страждущих в этом злом и прекрасном мире, и рожденному от чрева ее в пещере Вифлеемской, в бедном пастушеском приюте, в далекой земле Иудиной…» (Бунин вспоминал: «…Взволновался я и писал даже сквозь восторженные слезы только то место, где идут и славословят Мадонну запоньяры».)
Слуги на пароходе невидимы и безответны. Бойкий коридорный Луиджи, с «гримасами ужаса», «с притворной робостью, с доведенной до идиотизма почтительностью», на самом деле смеется над господином.
«Огненные несметные глаза» верхних этажей и «багровое пламя» в утробе парохода противопоставлены совсем иной цветовой гамме: «Шли они – и целая страна, радостная, прекрасная, солнечная, простиралась под ними: и каменистые горбы острова, который почти весь лежал у их ног, и та сказочная синева, в которой плавал он, и сияющие утренние пары над морем к востоку, под ослепительным солнцем, которое уже жарко грело, поднимаясь все выше и выше, и туманно-лазурные, еще по-утреннему зыбкие массивы Италии, ее близких и далеких гор, красоту которых бессильно выразить человеческое слово».
«Господина из Сан-Франциско» называют самым толстовским рассказом Бунина. Действительно, у позднего Толстого есть прямо перекликающиеся с бунинскими повесть «Смерть Ивана Ильича» и притча «Много ли человеку земли нужно?». Как и Толстой, Бунин противопоставляет фальшь богатства естественному простодушию простых людей. Подобно Толстому, Бунин сатирически смотрит на цивилизацию, которую благословляет Дьявол.
Бунин изображает ужас внезапной смерти. Но столь же ужасно-бессмысленна оказалась жизнь господина из Сан-Франциско, который только собирался жить, который думал, что ему покорен весь мир, но ему оказывается достаточно лишь ящика, большого и длинного ящика. «Мертвый остался в темноте, синие звезды глядели на него с неба, сверчок с грустной беззаботностью запел на стене…»
В «Господине из Сан-Франциско» Бунин вызывает на Страшный суд всю европейскую цивилизацию. Рассказ становится притчей о фальши современного мира, который на корабле «Атлантида», созданном гордыней Нового Человека, под предводительством языческого идола-капитана плывет в неизвестное будущее, сопровождаемый пристальным взглядом Дьявола, и оставляет за кормой прекрасную солнечную страну и смиренную молитву.
Звук этого рассказа-притчи – мрачное предупреждение: «В самом низу, в подводной утробе „Атлантиды“, тускло блистали сталью, сипели паром и сочились кипятком и маслом тысячепудовые громады котлов и всяческих других машин, той кухни, раскаляемой исподу адскими топками, в которой варилось движение корабля… А средина „Атлантиды“, столовые и бальные залы ее изливали свет и радость, гудели говором нарядной толпы, благоухали свежими цветами, пели струнным оркестром. И опять мучительно извивалась и порою судорожно сталкивалась среди этой толпы, среди блеска огней, шелков, бриллиантов и обнаженных женских плеч, тонкая и гибкая пара нанятых влюбленных: грешно-скромная девушка с опущенными ресницами, с невинной прической, и рослый молодой человек с черными, как бы приклеенными волосами, бледный от пудры, в изящнейшей лакированной обуви, в узком, с длинными фалдами, фраке – красавец, похожий на огромную пиявку. И никто не знал ни того, что уже давно наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой под бесстыдно-грустную музыку, ни того, что стоит глубоко, глубоко под ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и знойными недрами корабля, тяжко одолевавшего мрак, океан, вьюгу…»
РЕВОЛЮЦИЯ: ОКАЯННЫЕ ДНИ
Бунин великолепно знал деревенскую жизнь, как в деталях (одного критика он упрекал в том, что тот не может отличить рожь от пшеницы, и даже Чехову возражал, что в дворянских имениях никогда не было сплошь вишневых садов и они не росли около дома), так и в ее социальной и психологической сути. Автор жестоких и беспощадных повестей «Деревня» (1910) и «Суходол» (1911) не мог поэтому с энтузиазмом воспринимать ни мировую войну, ни Февральскую революцию, ни тем более революцию Октябрьскую. «Радость жизни убита войной, революцией», – записано в дневнике 22 октября 1917 года, за несколько дней до новой, третьей революции.
Бунин оказался одним из самых яростных, непримиримых противников Октября. Важным документом эпохи стала книга «Окаянные дни», дневник московских (1918) и одесских (1919) наблюдений революционных лет. Она была опубликована за границей, при советской власти упоминалась только в негативном контексте, а в СССР была напечатана лишь через семьдесят лет, в 1989 году, накануне исчезновения государства, возникшего в результате Октябрьской революции.
Во взгляде на революцию реалист Бунин и символист Блок вдруг оказались не только эстетическими, но и идейными антиподами.
Блок услышал в произошедшем музыку революции, Бунин – какофонию бунта. «Блок слышит Россию и революцию, как ветер…» «О, словоблуды! Реки крови, море слез, а им все нипочем».
Блок видел простодушное стихийное творчество восставшего народа. Бунин – кровавое безумие и повальное сумасшествие, вдохновляемое новой властью. «Разве многие не знали, что революция есть только кровавая игра в перемену местами, всегда кончающаяся только тем, что народ, даже если ему и удалось некоторое время посидеть, попировать и побушевать на господском месте, всегда в конце концов попадает из огня да в полымя? Главарями наиболее умными и хитрыми вполне сознательно приготовлена была издевательская вывеска: „Свобода, братство, равенство, социализм, коммунизм!“ И вывеска эта еще долго будет висеть – пока совсем крепко не усядутся они на шею народа».
Блок мечтал о грядущей «справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизни». Бунин оплакивал прошлую жизнь, на которую он недавно смотрел трезвым, беспощадным взглядом, как счастливую и прекрасную, как утраченный Эдем, земной русский рай.
Блок написал символическую поэму, привычно переводя проблему в философский, метафизический план. Бунин, забыв о художестве, впервые обратился к прямому слову, к публицистике, поражая читателя множеством жестоких деталей и резких оценок.
Блок остался и умер в России. Бунин в 1920 году вместе с остатками разгромленных белых войск на пароходе покинул Одессу. Как оказалось – навсегда.
«Вдруг я совсем очнулся, вдруг меня озарило: да, так вот оно что – я в Черном море, я на чужом пароходе, я зачем-то плыву в Константинополь, России – конец, да и всему, всей моей прежней жизни тоже конец, даже если и случится чудо и мы не погибнем в этой злой и ледяной пучине! Только как же это я не понимал, не понял этого раньше?» («Конец», 1921).
Эти строчки были написаны уже во Франции, в Париже, где писателю довелось провести больше тридцати лет, всю оставшуюся жизнь.
В ИЗГНАНИИ: ЛЕТОПИСЕЦ РУССКОЙ АТЛАНТИДЫ
«Это было давно, это было бесконечно давно, потому что та жизнь, которой все мы жили в то время, не вернется уже вовеки… Казалось, что нет, да никогда и не было, ни времени, ни деления его на века, на годы в этой забытой – или благословенной – Богом стране. ‹…› Прелесть была в том, что все мы были дети своей родины и были все вместе и всем нам было хорошо, спокойно и любовно без ясного понимания своих чувств, ибо их и не надо, не должно понимать, когда они есть. И еще в том была (уже совсем не сознаваемая нами тогда) прелесть, что эта родина, этот наш общий дом была – Россия и что только ее душа могла петь так, как пели косцы в этом откликающемся на каждый их вздох березовом лесу» («Косцы», 1921).
Достаточно сравнить этот образ России с теми картинами, которые сам Бунин рисовал в «Ночном разговоре», «Чаше жизни», «Деревне», как обнаружится его поэтический, идеализированный характер. Но именно такая Россия нужна писателю как точка опоры в перевернувшемся мире.
Бунин провел во Франции много лет. Большую часть года он с В. Н. Буниной жил в Париже, лето обычно проводил на юге, в Ницце. Но французские темы и сюжеты, даже жизнь русских эмигрантов, почти не нашли отражения в его прозе. Прекрасная Франция была для Бунина местом жизни, но не источником творчества.
Прежние социальные мотивы также почти исчезают из бунинского творчества. Оставаясь непримиримым к новой власти и к новому государству, СССР, в своем творчестве Бунин, к счастью, забывал и о царе, и о большевиках, и о миссии русской эмиграции, и о развращенных, позабывших «заветы» писателях-современниках. Он уже не воспроизводил с натуры, а заново воссоздавал дореволюционный мир, который невозможно было сверить с оригиналом.
Старая Россия, ушедшая на дно, как Атлантида, сохраняется в бунинской прозе в ее красоте и своеобразии.
«Что вообще остается в человеке от целой прожитой жизни?» – спрашивает Бунин. И сразу же отвечает: «Только мысль, только знание, что вот было тогда-то то-то и то-то, да некоторые разрозненные видения, некоторые чувства. Мы живем всем тем, чем живем, лишь в той мере, в какой постигаем цену того, чем живем. Обычно эта цена очень мала: возвышается она лишь в минуты восторга – восторга счастия или несчастия, яркого сознания приобретения или потери; еще – в минуты поэтического преображения прошлого в памяти».
Это одушевление, поэтическое преображение прошлого в памяти становится теперь главной задачей Бунина. «Мой отец, моя мать, братья, Маша пока в некотором роде существуют – в моей памяти. Когда умру, им полный конец… Все живее становится для меня мое прошлое… Боже, как все вижу, чувствую!» (дневник, 22 сентября 1942 г.).
Еще в большей степени, чем раньше, Бунин ощущает себя последним художником. Причем художником, философией которого становятся зрение и слух – краски, запахи, звуки и голоса прекрасного божьего мира. Эту Россию в красках Бунин и унес с собой в эмиграцию и живописал до последних дней жизни.
«ЖИЗНЬ АРСЕНЬЕВА»: ФОРМУЛА ПАМЯТИ
«Жизнь Арсеньева. Юность» (1927–1929, 1933), одна из двух главных бунинских книг эмигрантской эпохи, открывается торжественной фразой из книги старообрядца-проповедника XVIII века Ивана Филиппова – своеобразным эпиграфом, варьирующим мотив памяти: «Вещи и дела, аще не написанiи бывают, тмою покрываются и гробу беспамятства предаются, написавшiи же яко одушевленiи…»
Книга вырастает на личном материале. В этом смысле она продолжает традицию художественных автобиографий («Семейная хроника» С. Т. Аксакова, «Детство», «Отрочество», «Юность» Л. Н. Толстого, «История моего современника» В. Г. Короленко, «Детство», «В людях», «Мои университеты» М. Горького), унесенную в изгнание. Параллельно с Буниным, в те же десятилетия, пишутся «Детство Никиты» А. Толстого, «Юнкера» А. Куприна, «Богомолье» И. Шмелева, чуть позднее – «Времена» М. Осоргина.
Однако, не отрицая связи жизни Алексея Арсеньева с собственной жизнью (в книге легко узнаются отец писателя Алексей Николаевич, братья Юлий и Евгений, обстоятельства мучительного романа с Варварой Пащенко), Бунин все время протестовал против чисто биографического прочтения. «Вот думают, что история Арсеньева – моя собственная жизнь. А ведь это не так. Не могу я правды писать. Выдумал я и мою героиню. И до того вошел в ее жизнь, что поверил в то, что она существовала, и влюбился в нее. Да ведь как влюбился… Беру перо в руки и плачу. Потом начал видеть ее во сне. Она являлась ко мне такая же, какой я ее выдумал… Проснулся однажды и думаю: Господи, да ведь это, быть может, главная моя любовь за всю жизнь. А оказывается, ее не было…» – рассказывал он одному собеседнику (А. Седых).
Но в другом интервью признавал: «Можно при желании считать этот роман и автобиографией, так как для меня всякий искренний роман – автобиография. И в этом случае можно было бы сказать, что я всегда автобиографичен. В любом произведении находят отражение мои чувства. Это, во-первых, оживляет работу, а во-вторых, напоминает мне молодость, юность и жизнь в ту пору».
Это противоречие – между писателями от жизни и писателями выдумки, – на котором часто играют недалекие критики и которое, с другой стороны, является вечным хлебом биографического метода, разрешает результат – убедительно созданный художественный мир. Для читателя – особенно через десятилетия и тем паче столетия безразлично, из какого сора, из пережитого или «из головы», возникли эти события и персонажи. Главное, что они есть. С ними можно плакать или смеяться, увидеть в их жизни собственную.
Бунин, скорее, писатель первого типа. Тем отчаяннее он защищал права воображения. Но его художественная задача в «Жизни Арсеньева» не исчерпывается рассказом о том, как это было.
Это не просто роман одной жизни, детство-отрочество-юность Алексея Арсеньева, но книга о рождении художника. Не случайно расхождение с Ликой в значительной степени начинается с литературных вопросов. Она совершенно не понимает ни восхищения Арсеньева чужими стихами, ни его собственных попыток.
«Я часто читал ей стихи.
– Послушай, это изумительно! – восклицал я. – „Уноси мою душу в звенящую даль, где, как месяц над рощей, печаль!“
Но она изумления не испытывала.
– Да, это очень хорошо, – говорила она, уютно лежа на диване, подложив обе руки под щеку, глядя искоса, тихо и безразлично. – Но почему „как месяц над рощей“? Это Фет? У него вообще слишком много описаний природы.
Я негодовал: описаний! – пускался доказывать, что нет никакой отдельной от нас природы, что каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни. Она смеялась:
– Это только пауки, миленький, так живут!»
Сходную реакцию вызывает и рассказ о случае из собственной жизни: «Ну, миленький, о чем же тут писать? Что ж все погоду описывать!»
Рассказчик печально резюмирует: «Я страстно желал делиться с ней наслаждением своей наблюдательности, изощрением в этой наблюдательности, хотел заразить ее своим беспощадным отношением к окружающему и с отчаянием видел, что выходит нечто совершенно противоположное моему желанию сделать ее соучастницей своих чувств и мыслей» (книга пятая, глава VIII).
Изображая этот процесс, Бунин действительно многое выдумывает, существенно корректирует свой творческий путь. В 1890–1910-е годы ему совсем не чужды социальные мотивы. Но начинающий Арсеньев, мучимый желанием «писать что-то совсем другое, совсем не то, что я мог писать и писал», демонстративно иронизирует по поводу общественных задач литературы: «Зажигались фонари, тепло освещались окна магазинов, чернели фигуры идущих по тротуарам, вечер синел, как синька, в городе становилось сладко, уютно… Я, как сыщик, преследовал то одного, то другого прохожего, глядя на его спину, на его калоши, стараясь что-то понять, поймать в нем, войти в него… Писать! Вот о крышах, о калошах, о спинах надо писать, а вовсе не затем, чтобы бороться с произволом и насилием, защищать угнетенных и обездоленных, давать яркие типы, рисовать широкие картины общественности, современности, ее настроений и течений!»
И чуть дальше совсем уж наглядно, прямолинейно, демонстративно: «„Социальные контрасты!“ – думал я едко, в пику кому-то, проходя в свете и блеске витрины… На Московской я заходил в извозчичью чайную, сидел в ее говоре, тесноте и парном тепле, смотрел на мясистые алые лица, на рыжие бороды, на ржавый шелушащийся поднос, на котором стояли передо мной два белых чайника с мокрыми веревочками, привязанными к их крышечкам и ручкам… Наблюдение народного быта? Ошибаетесь, – только вот этого подноса, этой мокрой веревочки!» (книга пятая, глава XI).
Из наблюдения этой мокрой веревочки рождается то, что литературоведы называют феноменологическим романом и сравнивают с эпопеей М. Пруста, которого Бунин, по его признанию, в начале работы над книгой еще не читал. «„Жизнь Арсеньева“ – это не воспоминание о жизни, а воссоздание своего восприятия жизни и переживание этого восприятия (то есть новое „восприятие восприятия“). Жизнь сама по себе как таковая вне ее апперцепции и переживания не существует, объект и субъект слиты неразрывно, в одном едином контексте… Прошлое заново переживается в момент писания, и потому в „романе“ Бунина мы находим не мертвое „повествовательное время“ традиционных романов, а живое время повествователя, схваченное и зафиксированное (и оживающее каждый раз снова перед читателем) – во всей его неотразимой непосредственности» (Ю. Мальцев).
Стоит добавить, однако, что это живое время воспринимается не в зыбкой неопределенности и эфемерности, а в бурном потоке, бесконечном ливне подробностей, которые размывают и без того простую фабулу. Если присмотреться, к этой мокрой веревочке – всего-навсего в одном предложении – привязаны еще около десятка подробностей. Без них веревочка не стала бы столь демонстративной.
Бунинская память в первую очередь зрительна, наглядна, предметна. Из этой материи памяти рождается все остальное.
«Мое новое возвращение под отчий кров было уже не похоже на то, что было три года тому назад. На все я смотрел теперь другими глазами. И все в Батурине оказалось еще хуже, чем я представлял себе в дороге: убогие избы деревни, дикарские лохматые собаки и дикарские обледенелые водовозки возле порогов, вросших в железную грязь, колчи этой грязи по проезду к усадьбе, пустой двор перед угрюмым домом с печальными окнами, с нелепо высокой и тяжкой крышей времен дедов и прадедов и двумя темными от навесов крыльцами, дерево которых сизо от древности, – все старое, какое-то заброшенное, бесцельное – и бесцельный холодный ветер гнет верхушку заветной ели, торчащей из-за крыши дома, из жалкого в своей зимней наготе сада…» (книга пятая, глава XXX). Кажется, начав описывать, перечислять, Бунин уже не может остановиться: в этот бесконечный период можно втянуть всю книгу.