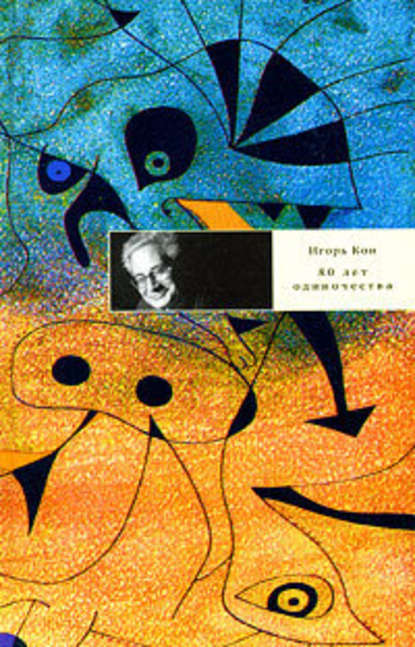По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
80 лет одиночества
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
По исторической диссертации это была Инна Ивановна Любименко (1879–1959), доктор Сорбонны, известный архивист. Дочь академика и вдова академика, помимо чисто исторических сведений, она рассказала мне замечательные вещи о дореволюционной жизни, как все тогда ездили отдыхать за границу, где все было неизмеримо лучше и дешевле, чем в России (например, в Крыму). А второй оппонент, декан истфака Пединститута имени Покровского Моисей Александрович Коган (1907–1982), удивительно красивый и остроумный человек (кстати, родной отец Юрия Левады), вообще был кладезем премудрости. Его позднейшие студенты, уже в Герценовском институте, вспоминают: «Мы никак не могли понять, в какой области истории он специализируется. Казалось, Моисей Александрович знает все: латынь, греческий, средневековый английский, немецкий, французский… На первом курсе он читал лекции по истории древнего Востока и античности. Вел интересный спецкурс по истории культуры средневековой Франции. И каково было наше удивление, когда он защищал докторскую диссертацию по истории Скандинавии нового времени» (herzentsn.ru/hystory/60.shtml).
По философской диссертации моим первым оппонентом был бывший декан философского факультета ЛГУ, самый старый и образованный историк философии, профессор Михаил Васильевич Серебряков (1879–1959). Докторов наук по философии в то время было очень мало, я шел к нему на прием с трепетом. Шикарная профессорская квартира на Литейном этот трепет еще больше усилила. Плюс длинные седые усы, которые некоторые даже принимали за бороду. Серебряков принял меня любезно, но, прежде чем дать согласие, стал просматривать рукопись, причем начал с библиографии. Видимо, у меня на лице выразилось изумление, и Михаил Васильевич мне объяснил, почему начинать нужно именно с литературы. «Понимаете, – сказал он, – диссертация может быть творческой или нетворческой, но степень ее профессиональности проще всего узнать по библиографии. Из того, что человек читал и как он составил библиографию, видна его общенаучная культура». Моя работа в этом плане сомнений у Серебрякова не вызвала, а сам я с того раза неизменно поступаю так же – просматриваю библиографию. Правда, теперь молодые люди научились составлять списки нечитаной литературы, но это легко заметить.
По второй диссертации у меня была также опубликована статья в «Вопросах философии», что было весьма престижно, так что факультетский совет в обоих случаях единогласно проголосовал «за».
Зато на «большом», общеинститутском совете произошел скандал. Стали говорить, что защита двух кандидатских диссертаций, когда нормальный аспирант не справляется в срок с одной, напоминает рекордсменство и может подорвать идею присуждения ученых степеней. Один из самых уважаемых в институте профессоров геолог А. С. Гинзберг выступил в мою защиту, сказав, что нужно разграничить два вопроса. Разумеется, писать две диссертации нецелесообразно, молодой человек мог бы применить свои способности более рационально, но коль скоро диссертация уже представлена, оценивать ее нужно только по ее качеству. Идею присуждения ученых степеней подрывает плохое качество диссертаций, а в данном случае никто сомнений не высказывал. Тем не менее восемь членов совета проголосовали против (при 24 «за»). Усвоив этот урок, третью, юридическую диссертацию, о правосознании, я заканчивать не стал, ограничившись статьей в «Вопросах философии» (и хорошо сделал, работа была очень плохая).
Хотя тройные кандидатские экзамены способствовали расширению моего общенаучного кругозора, писание параллельно нескольких диссертаций было, конечно, проявлением незрелости и мальчишеской дерзости. Никаких практических выгод это не приносило, а в науке важно не количество, а качество. Но мне было только двадцать два года.
Вологодский пединститут
…По моему мнению, если начальник не делает нам зла, это уже большое благо.
Пьер Огюстен Бомарше
Когда я окончил аспирантуру, Киселев, который был тогда деканом истфака, пытался оставить меня в институте, но из этого, естественно, ничего не вышло («неарийская» фамилия была значительно важнее двух диссертаций и статьи в «Вопросах философии»), и меня распределили на кафедру всеобщей истории Вологодского пединститута, что по тем временам было не так уж плохо. Герценовская кафедра новой истории подверглась частичному кадровому разгрому по национальному признаку. Мой шеф Г. Р. Левин уцелел, а самого приятного человека на кафедре, доцента Григория Семеновича Ульмана, уволили; заслуженный человек, ветеран войны, лишь через год с трудом нашел себе место в Калининграде.
В Вологде я читал параллельно шесть разных лекционных курсов плюс множество лекций в системе партийного просвещения. Недельная нагрузка доходила до сорока (!) часов. Преподавательскую работу я всегда любил, хотя некоторые курсы, например новая и новейшая история стран Востока, были мне, мягко говоря, слабо знакомы, а времени на подготовку не хватало, так что мне самому было интересно, что в этой истории произойдет в моей следующей лекции (учебник заканчивался задолго до современности). Впрочем, особых интеллектуальных трудностей не возникало: кругом были сплошные враги СССР. Помню, как я разоблачал приспешника американского империализма иранского премьера Мосаддыка (позже «выяснилось», что это был прогрессивный деятель, пытавшийся национализировать иранскую нефть). Однако мое горло такой нагрузки не выдержало, дело закончилось тяжелым хроническим ларинго-фарингитом, который мучил меня всю остальную жизнь.
Жизнь в преподавательском общежитии отличалась от домашней. Первое, что меня поразило, были сплетни. Самая страшная история произошла с моим предшественником. Одна дама, член ВКП(б) с 1917 г., нашла в уборной на этаже разорванную газету (туалетной бумаги в те годы не существовало) с портретом тов. Сталина, на которой был указан номер комнаты подписчика. Поскольку этого человека она за что-то ненавидела, то отнесла газету в партком как свидетельство политической неблагонадежности тов. Х. Проигнорировать столь серьезное заявление секретарь парткома не мог, а стоило дать делу ход, как остановить его было бы уже невозможно. Неуважение к портрету Вождя и Учителя было чревато потерей не только работы, но, возможно, свободы и самой жизни. К счастью, партсекретарь оказался на редкость порядочным и умным человеком. Он полностью разделил негодование коммунистки Ю., но спросил, видела ли она своими глазами, что товарищ Х. сам принес и использовал священную газету в грязных целях, ведь это могли сделать его дети? Товарищ Ю., как честная женщина, призналась, что этого она не видела. В таком случае, сказал секретарь, мы не будем открывать персонального дела, а ограничимся строгим личным внушением. Тов. Ю. не возражала, а вызванный в партком тов. Х. обещал быть более внимательным. Таким образом, инцидент был исчерпан, а коллеги впредь предупреждали новых жильцов, что в уборной надо опасаться не только того, что тебя могут увидеть без штанов.
Лично у меня подобных проблем не возникало, но однажды мне рассказали, что жившая в комнате напротив преподавательница истории КПСС (она постоянно ссорилась с мужем, майором КГБ, споры часто переносились в коридор, но пьяный майор сильно уступал жене в искусстве неизящной словесности, а потому всегда заканчивал словами: «Баба, ты и есть баба!») распространяет слухи, будто моя мама раскладывает пасьянсы. Это была наглая клевета! Моя мама сроду не раскладывала пасьянсов, карт в нашем доме не было, да и сами пасьянсы, в отличие от азартных игр, вовсе не считались предосудительными. В первый момент я возмутился и хотел призвать сплетницу к ответу, но моя умная мама рассудила иначе. Отсмеявшись, она сказала, что это хорошая идея, купила карты, научилась раскладывать пасьянсы и занималась этим до конца жизни. В старости, когда у нее развился тяжелый полиартрит, это стало для нее не только развлечением, но и полезным упражнением для пальцев.
Вологодский быт также сильно отличался от ленинградского. Люди были исключительно честными, никто и нигде, даже официантки в столовой и почтальоны, не брал чаевых, но жили трудно. Знаменитое вологодское масло я привозил из Ленинграда. Весной мяса и рыбы не было ни в магазинах, ни на рынке, ни в общепите. Студенты в общежитии, не дотягивая до стипендии, иногда голодали, но стеснялись попросить помощи.
Что касается преподавателей, среди них оказалось немало интересных и перспективных людей. Одним из них был молодой психолог Артур Владимирович Петровский; с ним и его очаровательной женой Иветтой Сергеевной у нас завязалась дружба, продолжавшаяся до самой его смерти.
Артур Владимирович Петровский (1924–2006)
Диапазон научных интересов Петровского был исключительно широк. Начав с изучения истории русской психологии (его кандидатская диссертация была посвящена Радищеву, а в последние годы жизни он много писал о соотношении психологии и политики), он стал в дальнейшем крупнейшим специалистом в области социальной психологии (теория коллектива) и психологии личности, удачно сочетая оригинальный теоретический подход с эмпирическими исследованиями. В конце жизни он продуктивно занимался общими проблемами теоретической психологии.
Труды Артура Владимировича хорошо знают не только психологи, но и учителя. В 1970-х годах он инициировал издание и был автором и редактором целой серии учебников и учебных пособий по общей, возрастной и педагогической психологии, по которым учились студенты педвузов. Именно Петровский побудил меня заняться психологией юношеского возраста и написать сначала главу в его учебник, а затем и самостоятельное учебное пособие по этому предмету. Как никто другой, он много сделал для подготовки энциклопедических словарей и справочников по психологии, а это очень тяжелая и неблагодарная работа.
Петровский был не только ученым, но и талантливым популяризатором науки. Его книги для родителей вошли в золотой фонд отечественной психологии, а его статьями в массовой печати, например в «Литературной газете», читатели одинаково зачитывались и в начале 1960-х (знаменитая статья «Педагогическое табу»), и в 2006 году. Он обладал настоящим литературным талантом и искрометным чувством юмора. При его участии было выпущено несколько отличных научно-популярных фильмов по психологии. Он был также консультантом замечательного фильма Ролана Быкова «Чучело», в котором впервые была поставлена проблема, которую сегодня в мире называют буллингом.
Очень велика была роль Петровского как организатора науки. В трудные 1990-е годы он много способствовал обновлению Академии педагогических наук СССР, стараясь превратить ее из оплота консервативной партийно-чиновничьей ортодоксии в подлинный штаб современной педагогической науки. Деятельность Петровского на посту первого президента Российской академии образования еще ждет своего исследователя. Артур Владимирович был исключительно трудолюбив. Будучи уже зрелым человеком и к тому же высокопоставленным научным чиновником, имевшим в своем распоряжении помощников и референтов, он не поленился овладеть английским языком настолько, что смог читать не только специальные статьи, но и детективные романы. Его последние годы были поистине героическими. Тяжело больной слепой ученый умудрялся не только на слух оценивать и редактировать чужие тексты, но и продолжал писать собственные книги. Последняя его книга «Психология и время» закончена буквально накануне смерти!
Петровский был не только ярким ученым, преподавателем и публицистом, но и замечательным семьянином, мужем, отцом и дедом. Другого такого большого семейного клана среди моих знакомых, пожалуй, нет. Хотя младшие поколения и здесь живут не совсем так, как старшие. Сильной стороной Артура Владимировича было то, что он, насколько я знаю, не пытался этому противостоять. Терпимость – необходимое условие мирного сосуществования с детьми и внуками.
Очень интересным человеком был профессор зоологии Павел Викторович Терентьев (1903–1970). До того он заведовал кафедрой в Ленинградском университете, но как бывший зэк, а также за морганизм-вейсманизм и увлечение математическими методами в 1949 г. был отовсюду изгнан и нашел убежище в Вологде (через несколько лет он благополучно вернулся в Ленинград). Это был разносторонне образованный человек. Вечерами, когда мы с ним прогуливались по заснеженной Вологде, обсуждая нашу невеселую жизнь, Павел Викторович развивал своеобразную теорию биологического оптимизма, основанную на опыте ледникового периода.
Когда-то давно, говорил он, на землю пришло оледенение, противостоять ему было невозможно, все земные твари погибали, но в некоторых местах остались ниши, в которых какие-то животные случайно уцелели. Им было плохо и холодно, однако затем ледник постепенно начал таять, а сохранившиеся существа выжили и заселили Землю. Может быть, для нас Вологда – именно такая ниша? Никаких других оснований для оптимизма в 1950—52 годах не было.
Но для молодого человека ледниковый оптимизм – философия не совсем подходящая. Я не только работал, но и позволял себе довольно рискованные поступки. С одного из них, собственно, и началось наше знакомство с Терентьевым. В то время всюду, а тем более – в провинции, всем командовал обком партии. Первый секретарь Вологодского обкома был человек приличный и честный, у меня учился его сын, отличный парень, которому отец никаких вольностей не позволял. Зато секретарь по пропаганде К., кандидат философских наук из Академии общественных наук при ЦК КПСС, отличался фантастическим невежеством и хамством.