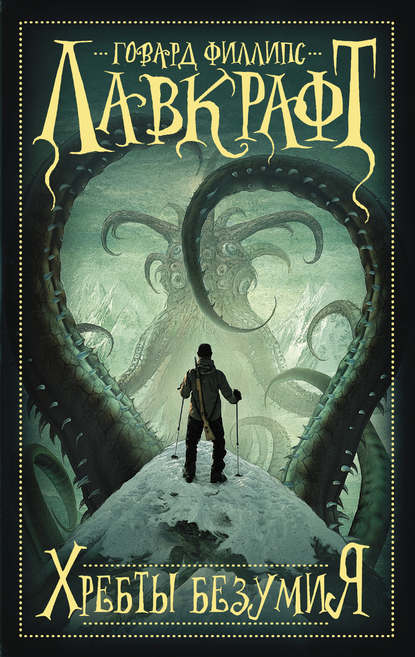По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Хребты безумия (сборник)
Автор
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Здесь смех и вино,
Веселья полно;
В могиле тебе недоступно оно.
Черт, как я надрался! Шагнуть не могу,
Стоять не могу, и язык – ни гу-гу!
Хозяин, порядок пора навести!
До дома попробую я добрести.
Кто мне бы помог?
Не чувствую ног,
Но весел, пока не прибрал меня Бог![8 - Перевод Дм. Раевского.]
Примерно в это же время я стал бояться огня и молний. Прежде они не производили на меня никакого впечатления, теперь же я испытывал перед ними непреодолимый ужас и спасался в самых укромных уголках, как только на небе разворачивалась грозовая панорама. Излюбленным убежищем мне служил разрушенный подвал сгоревшего в огне особняка Хайдов – сидя в нем, я старался вообразить, каким было это здание прежде. И однажды поразил одного из окрестных жителей, безошибочно указав ему вход в неглубокий нижний подвал, о котором я, как выяснилось, знал, несмотря на то что о его существовании многие годы никто не вспоминал.
Наконец произошло то, чего я давно опасался. Мои родители, встревоженные переменами в манерах и облике единственного сына, из самых благих побуждений учредили слежку за моими передвижениями, и это грозило катастрофой. Я никому не рассказывал о посещении гробницы, с детских лет благоговейно храня свои тайны; теперь же я вынужден был с еще большей осторожностью пробираться по лесному лабиринту, чтобы отделаться от возможного преследования. Ключ от усыпальницы висел у меня на шее на шнурке, и никто не подозревал о его существовании. Я ни разу не вынес наружу ни одного предмета, найденного в усыпальнице.
Как-то утром, выйдя из сырой гробницы и закрывая замок на цепи не совсем твердой рукой, я заметил на соседнем склоне испуганное лицо соглядатая. Конец был явственно виден, ведь мое убежище обнаружено, цель ночных странствий раскрыта. Соглядатай не остановил меня, и я поспешил домой, чтобы постараться подслушать, что он станет рассказывать моему измученному беспокойством отцу. Неужели о моем пребывании за запертой цепями дверью станет известно всем?
Вообразите же радость и облегчение, которые я испытал, услышав, что соглядатай рассказывает боязливым шепотом, будто я провел ночь возле усыпальницы, обратясь лицом к неплотно закрытой двери! Каким чудом он мог так обмануться? Несомненно, сверхъестественные силы покровительствовали мне! Ободренный этим обстоятельством, я вновь стал, не таясь, посещать усыпальницу, уверенный, что никому не дано увидеть, как я вхожу внутрь. Целую неделю я наслаждался загробным общением, которое не стану описывать, а потом произошло это, и я был привезен сюда, в ненавистную обитель, где царят печаль и однообразие.
В ту ночь я не собирался выходить: в тучах погромыхивал гром, а на дне лощины дьявольскими огоньками фосфоресцировало мерзкое болото. И даже зов мертвых звучал по-иному. Меня тянуло не к гробнице на склоне, а к обугленному подвалу на вершине, словно обитавший там демон манил меня невидимой рукой. Пройдя рощицу и оказавшись на ровном месте перед развалинами, я увидел в неверном свете луны то, чего всегда в какой-то мере ожидал. Перед моим восхищенным взором вновь возник во всем своем великолепии особняк, рухнувший столетие назад; все окна сияли блеском множества свечей. По подъездной аллее одна за другой кареты везли гостей из Бостона, а многочисленные обитатели соседних усадеб, разодетые, напудренные, подходили пешком. Я смешался с толпой гостей, хотя и сознавал, что мне подобает находиться среди хозяев. В зале царили музыка и смех, у каждого в руке был бокал с вином. Несколько лиц оказались знакомы мне, хотя я знавал их уже ссохшимися, тронутыми смертью и разложением. В этой дикой, нечестивой толпе я был самым диким и самым беспутным. Из моих уст изливался поток богохульств, я произносил речи, в которых отрицал все законы – и божеские, и человеческие, и природные.
Внезапно над самой крышей, перекрыв шум неистового веселья, раздался удар грома. Разбушевавшиеся весельчаки в ужасе смолкли. Красные языки пламени и опаляющий жар охватили здание; участники празднества, испуганные обрушившимся на них бедствием, которое, казалось, было ниспослано свыше, с пронзительными криками исчезли. Я остался один, меня удержал на месте унизительный страх, какого я никогда прежде не испытывал. Но вдруг он сменился новым ужасом. Если я заживо сгорю дотла, а пепел мой развеется по ветру, я никогда не буду лежать в усыпальнице Хайдов! Разве не ждет меня мой гроб? Разве нет у меня законного права на вечный покой среди потомков сэра Джеффри Хайда? Вечный! Я стремился получить свое посмертное наследство во что бы то ни стало, пусть даже душе моей пришлось бы столетиями искать воплощения в теле, которое сможет упокоиться в нише склепа. Джервас Хайд не разделит печальной участи Палинура! [9 - Палинур – рулевой корабля Энея, направлявшегося из Карфагена в Италию. Палинур заснул за рулем, упал за борт и погиб в волнах.]
Когда видение горящего дома растаяло в воздухе, я вдруг ощутил, что исступленно кричу и бьюсь в руках двух мужчин, один из которых – тот самый шпион, выслеживавший меня у гробницы. Дождь лил как из ведра, а на южной стороне неба, у горизонта, вспыхивали молнии, какие недавно сверкали у нас над головой. Я кричал, я требовал похоронить меня в склепе, а мой отец скорбно стоял поодаль и время от времени просил удерживавших меня людей обходиться со мной как можно мягче. На полу разрушенного подвала чернел круг – след мощного удара, ниспосланного с небес; из этого развороченного ударом молнии места несколько любопытствующих жителей деревни извлекли и принялись рассматривать при свете фонарей небольшую шкатулку старинной работы.
Прекратив тщетную и теперь уже бесполезную борьбу, я наблюдал за тем, как они любовались найденными в земле сокровищами, как, получив дозволение, принялись их делить. В шкатулке, замок которой был разбит, находилось множество бумаг и ценных предметов, но я не мог отвести глаз от одного из них. Это была миниатюра на фарфоре с инициалами «Дж. X.», изображавшая молодого человека в изящно завитом по моде XVIII века парике с кошельком. Насколько я мог разглядеть, лицо его было точной копией того, что я ежедневно видел в своем зеркале.
На следующий же день я оказался в этой комнате с зарешеченными окнами, но кое-что мне продолжает сообщать старый слуга – простая душа, которого я любил в детстве и которому, как и мне, нравятся кладбища. Все мои рассказы о пребывании в усыпальнице вызывают у слушателей только сочувственные улыбки. Отец, который часто навещает меня, утверждает, что я ни разу не входил в запертую на цепь дверь и что, как оказалось при ближайшем рассмотрении, ржавого замка в течение последних пяти десятков лет никто не трогал. Он даже говорит, что о моих прогулках к гробнице знали все окрестные жители и что меня часто видели у мрачного портала. Я спал с открытыми глазами, устремленными на неплотно прилегающую дверь. Никаких вещественных доказательств, с помощью которых я мог бы опровергнуть эти утверждения, у меня нет, ведь ключ от замка был утерян, когда я в ту ужасную ночь бился в руках своих преследователей. Удивительные знания о прошлом, которые я почерпнул во время ночных встреч с мертвецами, отец считает плодом многолетнего беспорядочного чтения старинных книг из фамильной библиотеки. И если бы не мой старый слуга Хайрам, я бы сейчас не сомневался в собственном безумии. Но Хайрам, преданный Хайрам, поддерживает во мне веру. Он совершил нечто, позволяющее мне сделать, во всяком случае, часть моей истории достоянием публики. Неделю назад он взломал замок, запиравший цепи на неизменно приоткрытой двери, и спустился с фонарем в мрачные глубины. На плите в каменной нише он обнаружил старый, но пустой гроб, на потускневшей серебряной пластинке которого стоит лишь одно слово: Джервас. Я получил обещание, что после смерти буду лежать в этом гробу, в этой усыпальнице.
1922
Гипнос
Перевод Олега Колесникова
Что же касается сна, этого зловещего приключения, случающегося каждую ночь, то вызывала бы удивление та смелость, с какой люди раз за разом отдают себя в его власть, не будь она результатом неведения и непонимания опасности.
Бодлер
Наверное, меня хранят милосердные боги, если таковые действительно существуют, в те часы, когда ни сила воли, ни какие-либо изобретенные человеком средства не способны удержать от падения в пропасть сна. Смерть милосердна, ибо из ее владений нет возврата; но тот, кто возвращается из мрачнейших владений ночи, измученный и познавший, навсегда лишается мира и покоя. Я был глупцом, неистово стремящимся познать тайны, не предназначенные для человеческого рассудка. Глупцом или богом был мой единственный друг, который вел меня этим путем и которого в итоге постигла та ужасная участь, что должна была достаться мне.
Припоминаю, как мы впервые встретились на железнодорожной станции, где он оказался в центре внимания толпы пошлых зевак. Он лежал без сознания, облаченный в черный костюм, его тело свела судорога, придавшая ему удивительную строгость. Думаю, ему было тогда около сорока – об этом свидетельствовали глубокие морщины на бледном, со впалыми щеками, но овальном и красивом лице и легкая проседь в густых вьющихся волосах и аккуратной бородке, которая прежде была иссиня-черной. Высокий лоб был божественной формы и точно высечен из пентелийского мрамора. Мне, скульптору по профессии, он показался статуей фавна античной Греции, найденной в руинах храма и чудесным образом оживленной в наш удушливый век, для того лишь, чтобы подчеркнуть пронизывающий холод и груз напрасно прожитых лет. И когда он открыл свои крупные, горящие лихорадочным блеском черные глаза, я уже знал, что отныне он станет моим единственным другом – другом человека, у которого никогда не было друзей, – поскольку такие глаза, должно быть, видят великолепие и ужас царств, находящихся за пределами обыденного сознания и действительности; царств, о которых я мечтал в грезах, но напрасно искал наяву. Поэтому, разогнав толпу, я предложил ему пройти со мной, быть моим учителем и проводником в постижении удивительных тайн, и он согласился, не произнеся ни слова. Позднее я обнаружил, что его голос похож на музыку, в нем сливались глубокое звучание виол и легкий звон хрусталя. Мы часто беседовали и ночью, и днем, пока я вытачивал из слоновой кости его бюсты и миниатюрные головки, чтобы запечатлеть для вечности различные выражения его лица.
Не берусь описать словами суть наших изысканий – слишком уж мало они связаны с какими-либо представлениями людей о мире. Они имели отношение к огромной устрашающей Вселенной и познании реальности, лежащий за пределами нашего понимания материи, времени и пространства, – той Вселенной, о существовании которой мы иногда догадываемся в тех особенных разновидностях сновидений, что неведомы заурядным представителям рода людского и лишь несколько раз в жизни являются человеку, одаренному воображением. Мир нашего бодрствующего сознания порожден из этой же Вселенной примерно как шут выдувает из трубочки мыльный пузырь и соприкасается с нею не больше, чем мыльный пузырь со своим творцом, когда этот шут втягивает его обратно по своей прихоти. Люди науки лишь смутно догадываются об этом, но по большей части стараются не замечать. Мудрецы как-то пытались толковать сны, и боги смеялись над ними. Один человек с восточными воззрениями сказал как-то, что время и пространство относительны, и люди подняли его на смех. Но этот человек с восточными воззрениями всего лишь высказал предположение. Я пытался сделать больше, чем просто предположение, и мой друг пытался – и отчасти преуспел. Затем мы стали пробовать вместе и с помощью экзотических наркотиков погружались в запретные глубины сновидений в моей башне-мастерской, пристроенной к старинному особняку в многовековом графстве Кент.
Одним из главных душевных терзаний тех дней была невыразимость. Невозможно записать или как-то еще сообщить то, что я узнал и увидел в часы тех нечестивых исследований, ибо ни в одном языке нет подходящих для этого слов и понятий. Наши впечатления от начала и до конца относились к области ощущений, которые нельзя сопоставить с реакциями нервной системы человека. И хотя это были ощущения и они даже содержали некоторые подобия времени и пространства, я не могу сказать про них ничего четкого и определенного. Все, что возможно в пределах возможностей человеческой речи, это передать общий характер наших опытов, называя происходящее в них погружениями и полетами, ибо при каждом таком откровении какая-то часть нашего сознания отрывалась от всего реального и настоящего и воспаряла над темными, внушающими ужас безднами, иногда прорывалась сквозь хорошо различимые препятствия, которые можно описать как странные вязкие облака.
Мы совершали эти бестелесные полеты иногда поодиночке, иногда вместе. Когда мы были вдвоем, мой друг всегда сильно опережал меня, но несмотря на бестелесность я узнавал о его присутствии всплывающим в памяти зрительным образам: его лицо в странном золотом свете пугающе красивое, с удивительно юными чертами, с горящими глазами, изгибом бровей гордого олимпийского бога и чуть тронутыми сединой волосами и бородою.
За временем мы не следили: оно казалось нам всего лишь иллюзией. Должно быть, в этом была какая-то доля истины, ибо мы удивлялись тому, что совсем не старимся. Наши обсуждения были чудовищно богохульственны и амбициозны: ни боги, ни демоны не отважились бы на то, чего домогались мы. Меня и сейчас пробирает дрожь, когда я рассказываю о наших занятиях, и я не решаюсь говорить о них более подробно; впрочем, скажу, что однажды мой друг написал на листке бумаги желание, которое не осмелился произнести вслух, а я сжег этот листок и со страхом посмотрел на усыпанное звездами ночное небо за окном. Я намекну – только намекну, – что он замышлял обрести власть над всей видимой вселенной и даже большей областью, предполагал достичь того, чтобы Земля и все звезды перемещались в пространстве согласно его воле, и решать судьбы всех живущих. Клянусь, что у меня не было ничего даже близкого к подобным притязаниям, а если это противоречит каким-то словам или записям моего друга, то он, несомненно, глубоко заблуждался, ибо я не властный человек, чтобы рисковать совершить нечто крайне запретное ради великого достижения.
В ту ночь ветры неизведанных пространств неудержимо несли нас к безграничному вакууму за пределами мыслимого. Особые непередаваемые ощущения вызывали в нас безграничный восторг, но сейчас они почти стерлись из моей памяти, а то, что осталось, пересказать почти невозможно. Вязкие облака проносились мимо одно за другим, и наконец я почувствовал, что мы достигли области столь далекой, в какой не бывали никогда прежде.
Мой друг был далеко впереди, но, несмотря на это, когда мы нырнули в удивительный океан первозданного эфира, я заметил мрачное ликование, которым светилось его удивительно юное лицо. Вдруг его очертания исчезли, и в то же время я почувствовал, что оказался перед препятствием, которое не могу преодолеть. Оно было подобно тем, какие мне уже встречались, но оказалось неизмеримо плотнее; нечто вязкое и клейкое, если вообще возможно применять подобные описания свойств нематериального мира.
Барьер, остановивший меня, мой друг и наставник преодолел без труда. Новая попытка прорваться привела к тому, что я пробудился от наркотического сна и, открыв глаза, увидел мастерскую в башне и бледное все еще бесчувственное тело моего спутника напротив, мраморные очертания его лица, невероятно изможденного, невыразимо прекрасного в золотистом лунном свете.
Вскоре тело в углу пошевелилось, и да хранят меня небеса от того, чтобы еще когда-либо увидеть или услышать подобное. Я не способен описать его крики и жуткие видения ада, отражавшиеся в его черных, обезумевших от страха глазах. Могу сказать лишь, что упал без чувств и пришел в себя лишь тогда, когда он, очнувшись, принялся меня трясти, желая избавиться от страха и одиночества.
Так завершились наши добровольные погружения в глубины грез. Упавший духом и вздрагивающий от дурных предчувствий, мой друг предостерег меня от возможных новых попыток исследования той области, где мы побывали. Он не решился рассказать, что именно там увидел, однако исходя из своего жизненного опыта решил, что нам теперь следует как можно меньше спать, даже если для этого придется использовать сильнодействующие лекарства. Довольно скоро я убедился в его правоте: невыразимый страх охватывал меня всякий раз, как только мною овладевал сон.
После каждого даже самого краткого и непродолжительного сна мне казалось, что я постарел, а мой друг дряхлел с пугающей быстротой. Было ужасным замечать, как на нем появляются морщины и седеют волосы. Наш образ жизни изменился полностью. Мой друг, прежде всегда бывший затворником – он даже не сообщил свое настоящее имя и откуда родом, – теперь панически боялся одиночества. По ночам он остерегался оставаться один, и даже компания в несколько человек его не успокаивала. Отрадой ему стали разнообразные шумные сборища и неистовые пирушки; немноголюдные мужские встречи нас не устраивали.
В большинстве случаев мы внешностью и возрастом настолько не соответствовали окружению, что это вызывало насмешки, и меня это больно ранило, но мой друг считал это меньшим злом, чем одиночество. Особенно опасался он оказываться под открытым небом, и когда такое случалось, то невольно часто боязливо посматривал вверх, будто за ним охотилось что-то чудовищное. Посматривал он не в какую-то определенную сторону – я заметил, что направление этих взглядов в разное время разное. Весенними вечерами он бросал взгляды на северо-восток. Летом он украдкой смотрел куда-то почти над головой. Осенью поглядывал на северо-запад. Зимой его осторожное внимание привлекала восточная часть небосклона, но только в предутренние часы.
Наиболее спокойным он казался зимними вечерами. Лишь по прошествии двух лет я понял, что этот страх связан с каким-то вполне конкретным местом; тогда я стал замечать, что поглядывает он всегда на одну и ту же точку звездного неба, где-то в области созвездия Северной Короны.
В то время мы занимали небольшую мастерскую в Лондоне, по-прежнему оставаясь неразлучными, но избегая разговоров о тех днях, когда пытались проникнуть в тайны нереального мира. Лекарственные препараты, беспорядочный образ жизни и нервное переутомление довольно заметно состарили нас, редеющие волосы и борода моего друга стали белыми как снег. Несмотря на это, мы умудрялись обходиться без долгого сна и крайне редко уделяли более одного-двух часов подряд на то беспамятство, что превратилось для нас в ужасную угрозу.
Наконец, в туманном и дождливом январе, наступил тот день, когда деньги у нас закончились и не на что было приобрести необходимые медицинские препараты. Я уже продал все свои статуи и резные головы из слоновой кости и не имел ни малейшего желания доставать материал и работать над новыми скульптурами. Положение наше было ужасным, и однажды ночью мой друг впал в странный тяжелый сон, из которого мне никак не удавалось его пробудить. Я и сейчас прекрасно помню эту сцену: запущенная мрачная каморка на чердаке, под самой крышей, по которой беспрерывно стучит дождь; мерно тикают настольные часы; воображаемо тикают карманные часы на туалетном столике; скрипят ставни в какой-то отдаленной части дома; звуки города, приглушенные туманом и расстоянием; но самое страшное – размеренное, глубокое, зловещее дыхание моего друга, ритмично отмеряющее мгновения сверхъестественного страха и агонии духа, блуждающего в невообразимых, немыслимо удаленных запретных сферах.
Напряжение моего бдения становилось невыносимым, дикая вереница мимолетных впечатлений и ассоциаций проносилась в моем слегка помутившемся сознании. Я услышал донесшийся откуда-то бой часов – наши часы этого не умели, – и моя возбужденная фантазия приняла его за отправную точку. Часы… время… пространство… безграничность… и затем мои мысли вернулись к настоящему, и, несмотря на туман и дождь, я вдруг ощутил, как на северо-востоке Северная Корона восходит над горизонтом. Созвездие, которого так опасался мой друг, нависает сверкающим полукольцом и простирает свои лучи сквозь неизмеримые бездны эфира. Вдруг мои уши уловили новый звук, прекрасно различимый сквозь общий шумовой фон – низкий монотонный вой, доносящийся издалека; жалобный, протяжный, насмешливый зов откуда-то с северо-востока.
Но не этот отдаленный вой лишил меня чувств и оставил на моей душе печать страха, от которой мне уже никогда не избавиться; не из-за него я так кричал и дергался в конвульсиях, что соседям и полиции пришлось выломать дверь. Дело было не в том, что я услышал, а в том, что увидел; ибо в темной, запертой и зашторенной комнате появился луч зловещего красно-золотистого света из северо-восточного угла – луч, который не рассеивал тьму вокруг, а подсвечивал только голову спящего, раздваивая видение его лица, так что я увидел светящееся и странно помолодевшее лицо моего друга, такое, каким я помнил его во время наших совместных блужданий по безднам пространства и раскрепощенного времени, когда он преодолел барьер и проник в тайную, самую сокровенную и запретную область ночных кошмаров.
Пока я в изумлении смотрел на это, голова приподнялась, черные, глубоко запавшие влажные глаза в ужасе раскрылись, а на тонких, бледных губах застыл крик, настолько пропитанный страхом, что не мог воплотиться в звуке. В этом мертвенно-бледном лице, сияющем и молодом, столь хорошо знакомом мне, я видел, что моего друга затопляет могучий, разрушающий мозг страх, не сравнимый ни с чем ни на земле, ни на небе.
Мы оба не произнесли ни слова, тогда как далекий вой нарастал, становясь все ближе и ближе; когда же я проследил за взглядом обезумевших глаз и лишь на миг увидел открывшееся ему – то, от чего шел звук и где начинался проклятый луч, – со мной случился сильнейший припадок эпилепсии, сопровождаемый криками, перебудившими всех соседей и заставившими их вызвать полицию. Я не раз пробовал, но мне не удается описать, что именно мне довелось там увидеть, а на застывшем лице моего несчастного друга, видевшего гораздо больше меня, уже ничто не прочтешь. Но с тех пор я стараюсь больше не поддаваться коварному и ненасытному Гипносу, повелителю снов, а также избегаю ночного неба, безумной жажды познания и философии.
Невозможно разобраться, что же все-таки случилось в ту ночь, ибо не только моего сознания коснулась ужасная тень, но и все окружающие вдруг стали проявлять забывчивость, более похожую на безумие. В один голос они утверждают, будто у меня вообще не было никакого друга, и только искусство, философия и безумие заполняли мою трагическую жизнь. Той ночью соседи и полиция пытались утешить меня и даже вызвали доктора, который дал что-то успокоительное, но никто из них не поверил в увиденный мною кошмар. Участь моего несчастного друга не вызвала у них жалости, тогда как обнаруженное на кушетке в углу мастерской привело к восхвалениям, вызвавшим у меня отвращение, и принесло мне ту славу, которую я отвергаю в отчаянии и провожу многие часы, беспомощный и одуревший от лекарств, лысый, седобородый старик, молитвенно взывающий к обожаемому найденному ими предмету.
Они отрицают, что я продал все свои работы, и восторгаются тем безмолвным и окаменевшим, что порождено проклятым лучом. Это все, что осталось от моего друга; друга, который был моим проводником на пути к безумию и катастрофе; изумительная, богоподобная мраморная голова в стиле древнегреческих статуй, молодость которой бессильно повредить время, прекрасное лицо, обрамленное короткой бородой, чуть тронутые улыбкой губы, изгиб бровей гордого олимпийского бога и густые вьющиеся локоны, украшенные венком из полевых маков. Говорят, что моделью для нее послужил я сам в возрасте двадцати пяти лет, но на ее мраморном основании высечено лишь одно имя греческими буквами: ??????.
1923
В склепе
Перевод Валерии Бернацкой
На мой взгляд, глупо считать, что с простыми людьми никаких других историй, кроме банальных, случиться не может, а ведь именно так думают многие. Стоит вам упомянуть о некой деревеньке, населенной янки, где гробовщик, недотепа и бедолага, остался по неосторожности в склепе, и читатель непременно будет ждать от вас немудреного анекдота с легким налетом гротеска. Однако в весьма заурядной истории, приключившейся с Джорджем Берчем, которую теперь, после его смерти, я могу поведать читателям, есть нечто, в сравнении с чем даже мрачнейшие из трагедий покажутся жизнерадостными побасенками.
В 1881 году Берч неожиданно закрыл свое дело и сменил профессию, не распространяясь о причинах, побудивших его к этому. Молчал и его врач, старина Дэвис, теперь уже почивший в бозе. Считалось, что болезнь Берча явилась следствием пережитого шока – в результате несчастного случая он оказался заперт в склепе на кладбище Пек-Уолли, где провел девять часов и выбрался откуда лишь с превеликим трудом. Все это чистая правда, но были в этой истории и другие, более мрачные подробности; как-то Берч, будучи мертвецки пьян, поведал мне о них. Думаю, он рассказал мне всю правду потому, что я был его врачом, к тому же после смерти Дэвиса его неодолимо тянуло поделиться с кем-нибудь еще. Ведь он был старый холостяк – ни родных, ни близких.
До 1881 года Берч оставался деревенским гробовщиком, но даже среди людей этой профессии выделялся своей черствостью и примитивностью. Качество его работы оставляло желать лучшего и сегодня никого бы уже не удовлетворило, по крайней мере в городах, но думаю, что и жители Пек-Уолли содрогнулись бы, узнай они, как бессовестно ловчит этот мастер ритуальных услуг, когда ему заказывают дорогую обивку, невидную на дне гроба, или с каким небрежением укладывает покойников в их последнее пристанище. Нет сомнений, Берч был неряшлив, равнодушен к людскому горю, никуда не годился в профессиональном отношении, и все же, мне кажется, он не был злым человеком. Просто он был от природы груб – туповатый, ленивый, жадный, что и привело впоследствии к несчастью, которого могло бы и не случиться. У него напрочь отсутствовало воображение, которое не позволяет рядовому обывателю, получившему хоть какое-то воспитание, выходить за общепринятые рамки приличия в своем поведении.
Я не мастер рассказывать истории и поэтому не знаю, с чего начать свое повествование. Может, всего уместнее начать с того холодного декабря 1880 года, когда земля промерзла до такой степени, что могильщики поняли: до весны им не выкопать ни одной могилы. Деревушка, к счастью, была небольшая, умирали не часто, и потому все клиенты Берча могли найти себе временный приют в старом общем склепе. Наш гробовщик от холодной погоды вовсе разленился и, кажется, превзошел в халатности самого себя. Еще никогда не сбывал он таких утлых и нескладных гробов и совсем не обращал внимания на проржавевший засов склепа, дверцей которого он то и дело хлопал с вызывающей небрежностью.
Наконец пришла весна, и для девятерых умолкших навеки заложников зимы, терпеливо ждавших в склепе часа своего упокоения, были выкопаны могилы. Берч, хоть и не любивший хлопот, связанных с погребением мертвецов, все же одним ненастным апрельским днем начал перевозить гробы, но прекратил работу еще до полудня по причине сильного дождя, беспокоившего лошадь. Он успел доставить к месту вечного приюта одного лишь Дариуса Пека, девяностолетнего старца, чья могила была недалеко от склепа. Берч решил, что перевезет остальных завтра, начав с низкорослого Мэтью Феннера, чья могила также была неподалеку, но проканителился целых три дня, вплоть до пятнадцатого – до Страстной пятницы. Лишенный всяких предрассудков, он не побоялся работать в святой день, хотя впоследствии его никакими силами нельзя было заставить чем-либо в такие дни заниматься. События того вечера, несомненно, очень его изменили.
Веселья полно;
В могиле тебе недоступно оно.
Черт, как я надрался! Шагнуть не могу,
Стоять не могу, и язык – ни гу-гу!
Хозяин, порядок пора навести!
До дома попробую я добрести.
Кто мне бы помог?
Не чувствую ног,
Но весел, пока не прибрал меня Бог![8 - Перевод Дм. Раевского.]
Примерно в это же время я стал бояться огня и молний. Прежде они не производили на меня никакого впечатления, теперь же я испытывал перед ними непреодолимый ужас и спасался в самых укромных уголках, как только на небе разворачивалась грозовая панорама. Излюбленным убежищем мне служил разрушенный подвал сгоревшего в огне особняка Хайдов – сидя в нем, я старался вообразить, каким было это здание прежде. И однажды поразил одного из окрестных жителей, безошибочно указав ему вход в неглубокий нижний подвал, о котором я, как выяснилось, знал, несмотря на то что о его существовании многие годы никто не вспоминал.
Наконец произошло то, чего я давно опасался. Мои родители, встревоженные переменами в манерах и облике единственного сына, из самых благих побуждений учредили слежку за моими передвижениями, и это грозило катастрофой. Я никому не рассказывал о посещении гробницы, с детских лет благоговейно храня свои тайны; теперь же я вынужден был с еще большей осторожностью пробираться по лесному лабиринту, чтобы отделаться от возможного преследования. Ключ от усыпальницы висел у меня на шее на шнурке, и никто не подозревал о его существовании. Я ни разу не вынес наружу ни одного предмета, найденного в усыпальнице.
Как-то утром, выйдя из сырой гробницы и закрывая замок на цепи не совсем твердой рукой, я заметил на соседнем склоне испуганное лицо соглядатая. Конец был явственно виден, ведь мое убежище обнаружено, цель ночных странствий раскрыта. Соглядатай не остановил меня, и я поспешил домой, чтобы постараться подслушать, что он станет рассказывать моему измученному беспокойством отцу. Неужели о моем пребывании за запертой цепями дверью станет известно всем?
Вообразите же радость и облегчение, которые я испытал, услышав, что соглядатай рассказывает боязливым шепотом, будто я провел ночь возле усыпальницы, обратясь лицом к неплотно закрытой двери! Каким чудом он мог так обмануться? Несомненно, сверхъестественные силы покровительствовали мне! Ободренный этим обстоятельством, я вновь стал, не таясь, посещать усыпальницу, уверенный, что никому не дано увидеть, как я вхожу внутрь. Целую неделю я наслаждался загробным общением, которое не стану описывать, а потом произошло это, и я был привезен сюда, в ненавистную обитель, где царят печаль и однообразие.
В ту ночь я не собирался выходить: в тучах погромыхивал гром, а на дне лощины дьявольскими огоньками фосфоресцировало мерзкое болото. И даже зов мертвых звучал по-иному. Меня тянуло не к гробнице на склоне, а к обугленному подвалу на вершине, словно обитавший там демон манил меня невидимой рукой. Пройдя рощицу и оказавшись на ровном месте перед развалинами, я увидел в неверном свете луны то, чего всегда в какой-то мере ожидал. Перед моим восхищенным взором вновь возник во всем своем великолепии особняк, рухнувший столетие назад; все окна сияли блеском множества свечей. По подъездной аллее одна за другой кареты везли гостей из Бостона, а многочисленные обитатели соседних усадеб, разодетые, напудренные, подходили пешком. Я смешался с толпой гостей, хотя и сознавал, что мне подобает находиться среди хозяев. В зале царили музыка и смех, у каждого в руке был бокал с вином. Несколько лиц оказались знакомы мне, хотя я знавал их уже ссохшимися, тронутыми смертью и разложением. В этой дикой, нечестивой толпе я был самым диким и самым беспутным. Из моих уст изливался поток богохульств, я произносил речи, в которых отрицал все законы – и божеские, и человеческие, и природные.
Внезапно над самой крышей, перекрыв шум неистового веселья, раздался удар грома. Разбушевавшиеся весельчаки в ужасе смолкли. Красные языки пламени и опаляющий жар охватили здание; участники празднества, испуганные обрушившимся на них бедствием, которое, казалось, было ниспослано свыше, с пронзительными криками исчезли. Я остался один, меня удержал на месте унизительный страх, какого я никогда прежде не испытывал. Но вдруг он сменился новым ужасом. Если я заживо сгорю дотла, а пепел мой развеется по ветру, я никогда не буду лежать в усыпальнице Хайдов! Разве не ждет меня мой гроб? Разве нет у меня законного права на вечный покой среди потомков сэра Джеффри Хайда? Вечный! Я стремился получить свое посмертное наследство во что бы то ни стало, пусть даже душе моей пришлось бы столетиями искать воплощения в теле, которое сможет упокоиться в нише склепа. Джервас Хайд не разделит печальной участи Палинура! [9 - Палинур – рулевой корабля Энея, направлявшегося из Карфагена в Италию. Палинур заснул за рулем, упал за борт и погиб в волнах.]
Когда видение горящего дома растаяло в воздухе, я вдруг ощутил, что исступленно кричу и бьюсь в руках двух мужчин, один из которых – тот самый шпион, выслеживавший меня у гробницы. Дождь лил как из ведра, а на южной стороне неба, у горизонта, вспыхивали молнии, какие недавно сверкали у нас над головой. Я кричал, я требовал похоронить меня в склепе, а мой отец скорбно стоял поодаль и время от времени просил удерживавших меня людей обходиться со мной как можно мягче. На полу разрушенного подвала чернел круг – след мощного удара, ниспосланного с небес; из этого развороченного ударом молнии места несколько любопытствующих жителей деревни извлекли и принялись рассматривать при свете фонарей небольшую шкатулку старинной работы.
Прекратив тщетную и теперь уже бесполезную борьбу, я наблюдал за тем, как они любовались найденными в земле сокровищами, как, получив дозволение, принялись их делить. В шкатулке, замок которой был разбит, находилось множество бумаг и ценных предметов, но я не мог отвести глаз от одного из них. Это была миниатюра на фарфоре с инициалами «Дж. X.», изображавшая молодого человека в изящно завитом по моде XVIII века парике с кошельком. Насколько я мог разглядеть, лицо его было точной копией того, что я ежедневно видел в своем зеркале.
На следующий же день я оказался в этой комнате с зарешеченными окнами, но кое-что мне продолжает сообщать старый слуга – простая душа, которого я любил в детстве и которому, как и мне, нравятся кладбища. Все мои рассказы о пребывании в усыпальнице вызывают у слушателей только сочувственные улыбки. Отец, который часто навещает меня, утверждает, что я ни разу не входил в запертую на цепь дверь и что, как оказалось при ближайшем рассмотрении, ржавого замка в течение последних пяти десятков лет никто не трогал. Он даже говорит, что о моих прогулках к гробнице знали все окрестные жители и что меня часто видели у мрачного портала. Я спал с открытыми глазами, устремленными на неплотно прилегающую дверь. Никаких вещественных доказательств, с помощью которых я мог бы опровергнуть эти утверждения, у меня нет, ведь ключ от замка был утерян, когда я в ту ужасную ночь бился в руках своих преследователей. Удивительные знания о прошлом, которые я почерпнул во время ночных встреч с мертвецами, отец считает плодом многолетнего беспорядочного чтения старинных книг из фамильной библиотеки. И если бы не мой старый слуга Хайрам, я бы сейчас не сомневался в собственном безумии. Но Хайрам, преданный Хайрам, поддерживает во мне веру. Он совершил нечто, позволяющее мне сделать, во всяком случае, часть моей истории достоянием публики. Неделю назад он взломал замок, запиравший цепи на неизменно приоткрытой двери, и спустился с фонарем в мрачные глубины. На плите в каменной нише он обнаружил старый, но пустой гроб, на потускневшей серебряной пластинке которого стоит лишь одно слово: Джервас. Я получил обещание, что после смерти буду лежать в этом гробу, в этой усыпальнице.
1922
Гипнос
Перевод Олега Колесникова
Что же касается сна, этого зловещего приключения, случающегося каждую ночь, то вызывала бы удивление та смелость, с какой люди раз за разом отдают себя в его власть, не будь она результатом неведения и непонимания опасности.
Бодлер
Наверное, меня хранят милосердные боги, если таковые действительно существуют, в те часы, когда ни сила воли, ни какие-либо изобретенные человеком средства не способны удержать от падения в пропасть сна. Смерть милосердна, ибо из ее владений нет возврата; но тот, кто возвращается из мрачнейших владений ночи, измученный и познавший, навсегда лишается мира и покоя. Я был глупцом, неистово стремящимся познать тайны, не предназначенные для человеческого рассудка. Глупцом или богом был мой единственный друг, который вел меня этим путем и которого в итоге постигла та ужасная участь, что должна была достаться мне.
Припоминаю, как мы впервые встретились на железнодорожной станции, где он оказался в центре внимания толпы пошлых зевак. Он лежал без сознания, облаченный в черный костюм, его тело свела судорога, придавшая ему удивительную строгость. Думаю, ему было тогда около сорока – об этом свидетельствовали глубокие морщины на бледном, со впалыми щеками, но овальном и красивом лице и легкая проседь в густых вьющихся волосах и аккуратной бородке, которая прежде была иссиня-черной. Высокий лоб был божественной формы и точно высечен из пентелийского мрамора. Мне, скульптору по профессии, он показался статуей фавна античной Греции, найденной в руинах храма и чудесным образом оживленной в наш удушливый век, для того лишь, чтобы подчеркнуть пронизывающий холод и груз напрасно прожитых лет. И когда он открыл свои крупные, горящие лихорадочным блеском черные глаза, я уже знал, что отныне он станет моим единственным другом – другом человека, у которого никогда не было друзей, – поскольку такие глаза, должно быть, видят великолепие и ужас царств, находящихся за пределами обыденного сознания и действительности; царств, о которых я мечтал в грезах, но напрасно искал наяву. Поэтому, разогнав толпу, я предложил ему пройти со мной, быть моим учителем и проводником в постижении удивительных тайн, и он согласился, не произнеся ни слова. Позднее я обнаружил, что его голос похож на музыку, в нем сливались глубокое звучание виол и легкий звон хрусталя. Мы часто беседовали и ночью, и днем, пока я вытачивал из слоновой кости его бюсты и миниатюрные головки, чтобы запечатлеть для вечности различные выражения его лица.
Не берусь описать словами суть наших изысканий – слишком уж мало они связаны с какими-либо представлениями людей о мире. Они имели отношение к огромной устрашающей Вселенной и познании реальности, лежащий за пределами нашего понимания материи, времени и пространства, – той Вселенной, о существовании которой мы иногда догадываемся в тех особенных разновидностях сновидений, что неведомы заурядным представителям рода людского и лишь несколько раз в жизни являются человеку, одаренному воображением. Мир нашего бодрствующего сознания порожден из этой же Вселенной примерно как шут выдувает из трубочки мыльный пузырь и соприкасается с нею не больше, чем мыльный пузырь со своим творцом, когда этот шут втягивает его обратно по своей прихоти. Люди науки лишь смутно догадываются об этом, но по большей части стараются не замечать. Мудрецы как-то пытались толковать сны, и боги смеялись над ними. Один человек с восточными воззрениями сказал как-то, что время и пространство относительны, и люди подняли его на смех. Но этот человек с восточными воззрениями всего лишь высказал предположение. Я пытался сделать больше, чем просто предположение, и мой друг пытался – и отчасти преуспел. Затем мы стали пробовать вместе и с помощью экзотических наркотиков погружались в запретные глубины сновидений в моей башне-мастерской, пристроенной к старинному особняку в многовековом графстве Кент.
Одним из главных душевных терзаний тех дней была невыразимость. Невозможно записать или как-то еще сообщить то, что я узнал и увидел в часы тех нечестивых исследований, ибо ни в одном языке нет подходящих для этого слов и понятий. Наши впечатления от начала и до конца относились к области ощущений, которые нельзя сопоставить с реакциями нервной системы человека. И хотя это были ощущения и они даже содержали некоторые подобия времени и пространства, я не могу сказать про них ничего четкого и определенного. Все, что возможно в пределах возможностей человеческой речи, это передать общий характер наших опытов, называя происходящее в них погружениями и полетами, ибо при каждом таком откровении какая-то часть нашего сознания отрывалась от всего реального и настоящего и воспаряла над темными, внушающими ужас безднами, иногда прорывалась сквозь хорошо различимые препятствия, которые можно описать как странные вязкие облака.
Мы совершали эти бестелесные полеты иногда поодиночке, иногда вместе. Когда мы были вдвоем, мой друг всегда сильно опережал меня, но несмотря на бестелесность я узнавал о его присутствии всплывающим в памяти зрительным образам: его лицо в странном золотом свете пугающе красивое, с удивительно юными чертами, с горящими глазами, изгибом бровей гордого олимпийского бога и чуть тронутыми сединой волосами и бородою.
За временем мы не следили: оно казалось нам всего лишь иллюзией. Должно быть, в этом была какая-то доля истины, ибо мы удивлялись тому, что совсем не старимся. Наши обсуждения были чудовищно богохульственны и амбициозны: ни боги, ни демоны не отважились бы на то, чего домогались мы. Меня и сейчас пробирает дрожь, когда я рассказываю о наших занятиях, и я не решаюсь говорить о них более подробно; впрочем, скажу, что однажды мой друг написал на листке бумаги желание, которое не осмелился произнести вслух, а я сжег этот листок и со страхом посмотрел на усыпанное звездами ночное небо за окном. Я намекну – только намекну, – что он замышлял обрести власть над всей видимой вселенной и даже большей областью, предполагал достичь того, чтобы Земля и все звезды перемещались в пространстве согласно его воле, и решать судьбы всех живущих. Клянусь, что у меня не было ничего даже близкого к подобным притязаниям, а если это противоречит каким-то словам или записям моего друга, то он, несомненно, глубоко заблуждался, ибо я не властный человек, чтобы рисковать совершить нечто крайне запретное ради великого достижения.
В ту ночь ветры неизведанных пространств неудержимо несли нас к безграничному вакууму за пределами мыслимого. Особые непередаваемые ощущения вызывали в нас безграничный восторг, но сейчас они почти стерлись из моей памяти, а то, что осталось, пересказать почти невозможно. Вязкие облака проносились мимо одно за другим, и наконец я почувствовал, что мы достигли области столь далекой, в какой не бывали никогда прежде.
Мой друг был далеко впереди, но, несмотря на это, когда мы нырнули в удивительный океан первозданного эфира, я заметил мрачное ликование, которым светилось его удивительно юное лицо. Вдруг его очертания исчезли, и в то же время я почувствовал, что оказался перед препятствием, которое не могу преодолеть. Оно было подобно тем, какие мне уже встречались, но оказалось неизмеримо плотнее; нечто вязкое и клейкое, если вообще возможно применять подобные описания свойств нематериального мира.
Барьер, остановивший меня, мой друг и наставник преодолел без труда. Новая попытка прорваться привела к тому, что я пробудился от наркотического сна и, открыв глаза, увидел мастерскую в башне и бледное все еще бесчувственное тело моего спутника напротив, мраморные очертания его лица, невероятно изможденного, невыразимо прекрасного в золотистом лунном свете.
Вскоре тело в углу пошевелилось, и да хранят меня небеса от того, чтобы еще когда-либо увидеть или услышать подобное. Я не способен описать его крики и жуткие видения ада, отражавшиеся в его черных, обезумевших от страха глазах. Могу сказать лишь, что упал без чувств и пришел в себя лишь тогда, когда он, очнувшись, принялся меня трясти, желая избавиться от страха и одиночества.
Так завершились наши добровольные погружения в глубины грез. Упавший духом и вздрагивающий от дурных предчувствий, мой друг предостерег меня от возможных новых попыток исследования той области, где мы побывали. Он не решился рассказать, что именно там увидел, однако исходя из своего жизненного опыта решил, что нам теперь следует как можно меньше спать, даже если для этого придется использовать сильнодействующие лекарства. Довольно скоро я убедился в его правоте: невыразимый страх охватывал меня всякий раз, как только мною овладевал сон.
После каждого даже самого краткого и непродолжительного сна мне казалось, что я постарел, а мой друг дряхлел с пугающей быстротой. Было ужасным замечать, как на нем появляются морщины и седеют волосы. Наш образ жизни изменился полностью. Мой друг, прежде всегда бывший затворником – он даже не сообщил свое настоящее имя и откуда родом, – теперь панически боялся одиночества. По ночам он остерегался оставаться один, и даже компания в несколько человек его не успокаивала. Отрадой ему стали разнообразные шумные сборища и неистовые пирушки; немноголюдные мужские встречи нас не устраивали.
В большинстве случаев мы внешностью и возрастом настолько не соответствовали окружению, что это вызывало насмешки, и меня это больно ранило, но мой друг считал это меньшим злом, чем одиночество. Особенно опасался он оказываться под открытым небом, и когда такое случалось, то невольно часто боязливо посматривал вверх, будто за ним охотилось что-то чудовищное. Посматривал он не в какую-то определенную сторону – я заметил, что направление этих взглядов в разное время разное. Весенними вечерами он бросал взгляды на северо-восток. Летом он украдкой смотрел куда-то почти над головой. Осенью поглядывал на северо-запад. Зимой его осторожное внимание привлекала восточная часть небосклона, но только в предутренние часы.
Наиболее спокойным он казался зимними вечерами. Лишь по прошествии двух лет я понял, что этот страх связан с каким-то вполне конкретным местом; тогда я стал замечать, что поглядывает он всегда на одну и ту же точку звездного неба, где-то в области созвездия Северной Короны.
В то время мы занимали небольшую мастерскую в Лондоне, по-прежнему оставаясь неразлучными, но избегая разговоров о тех днях, когда пытались проникнуть в тайны нереального мира. Лекарственные препараты, беспорядочный образ жизни и нервное переутомление довольно заметно состарили нас, редеющие волосы и борода моего друга стали белыми как снег. Несмотря на это, мы умудрялись обходиться без долгого сна и крайне редко уделяли более одного-двух часов подряд на то беспамятство, что превратилось для нас в ужасную угрозу.
Наконец, в туманном и дождливом январе, наступил тот день, когда деньги у нас закончились и не на что было приобрести необходимые медицинские препараты. Я уже продал все свои статуи и резные головы из слоновой кости и не имел ни малейшего желания доставать материал и работать над новыми скульптурами. Положение наше было ужасным, и однажды ночью мой друг впал в странный тяжелый сон, из которого мне никак не удавалось его пробудить. Я и сейчас прекрасно помню эту сцену: запущенная мрачная каморка на чердаке, под самой крышей, по которой беспрерывно стучит дождь; мерно тикают настольные часы; воображаемо тикают карманные часы на туалетном столике; скрипят ставни в какой-то отдаленной части дома; звуки города, приглушенные туманом и расстоянием; но самое страшное – размеренное, глубокое, зловещее дыхание моего друга, ритмично отмеряющее мгновения сверхъестественного страха и агонии духа, блуждающего в невообразимых, немыслимо удаленных запретных сферах.
Напряжение моего бдения становилось невыносимым, дикая вереница мимолетных впечатлений и ассоциаций проносилась в моем слегка помутившемся сознании. Я услышал донесшийся откуда-то бой часов – наши часы этого не умели, – и моя возбужденная фантазия приняла его за отправную точку. Часы… время… пространство… безграничность… и затем мои мысли вернулись к настоящему, и, несмотря на туман и дождь, я вдруг ощутил, как на северо-востоке Северная Корона восходит над горизонтом. Созвездие, которого так опасался мой друг, нависает сверкающим полукольцом и простирает свои лучи сквозь неизмеримые бездны эфира. Вдруг мои уши уловили новый звук, прекрасно различимый сквозь общий шумовой фон – низкий монотонный вой, доносящийся издалека; жалобный, протяжный, насмешливый зов откуда-то с северо-востока.
Но не этот отдаленный вой лишил меня чувств и оставил на моей душе печать страха, от которой мне уже никогда не избавиться; не из-за него я так кричал и дергался в конвульсиях, что соседям и полиции пришлось выломать дверь. Дело было не в том, что я услышал, а в том, что увидел; ибо в темной, запертой и зашторенной комнате появился луч зловещего красно-золотистого света из северо-восточного угла – луч, который не рассеивал тьму вокруг, а подсвечивал только голову спящего, раздваивая видение его лица, так что я увидел светящееся и странно помолодевшее лицо моего друга, такое, каким я помнил его во время наших совместных блужданий по безднам пространства и раскрепощенного времени, когда он преодолел барьер и проник в тайную, самую сокровенную и запретную область ночных кошмаров.
Пока я в изумлении смотрел на это, голова приподнялась, черные, глубоко запавшие влажные глаза в ужасе раскрылись, а на тонких, бледных губах застыл крик, настолько пропитанный страхом, что не мог воплотиться в звуке. В этом мертвенно-бледном лице, сияющем и молодом, столь хорошо знакомом мне, я видел, что моего друга затопляет могучий, разрушающий мозг страх, не сравнимый ни с чем ни на земле, ни на небе.
Мы оба не произнесли ни слова, тогда как далекий вой нарастал, становясь все ближе и ближе; когда же я проследил за взглядом обезумевших глаз и лишь на миг увидел открывшееся ему – то, от чего шел звук и где начинался проклятый луч, – со мной случился сильнейший припадок эпилепсии, сопровождаемый криками, перебудившими всех соседей и заставившими их вызвать полицию. Я не раз пробовал, но мне не удается описать, что именно мне довелось там увидеть, а на застывшем лице моего несчастного друга, видевшего гораздо больше меня, уже ничто не прочтешь. Но с тех пор я стараюсь больше не поддаваться коварному и ненасытному Гипносу, повелителю снов, а также избегаю ночного неба, безумной жажды познания и философии.
Невозможно разобраться, что же все-таки случилось в ту ночь, ибо не только моего сознания коснулась ужасная тень, но и все окружающие вдруг стали проявлять забывчивость, более похожую на безумие. В один голос они утверждают, будто у меня вообще не было никакого друга, и только искусство, философия и безумие заполняли мою трагическую жизнь. Той ночью соседи и полиция пытались утешить меня и даже вызвали доктора, который дал что-то успокоительное, но никто из них не поверил в увиденный мною кошмар. Участь моего несчастного друга не вызвала у них жалости, тогда как обнаруженное на кушетке в углу мастерской привело к восхвалениям, вызвавшим у меня отвращение, и принесло мне ту славу, которую я отвергаю в отчаянии и провожу многие часы, беспомощный и одуревший от лекарств, лысый, седобородый старик, молитвенно взывающий к обожаемому найденному ими предмету.
Они отрицают, что я продал все свои работы, и восторгаются тем безмолвным и окаменевшим, что порождено проклятым лучом. Это все, что осталось от моего друга; друга, который был моим проводником на пути к безумию и катастрофе; изумительная, богоподобная мраморная голова в стиле древнегреческих статуй, молодость которой бессильно повредить время, прекрасное лицо, обрамленное короткой бородой, чуть тронутые улыбкой губы, изгиб бровей гордого олимпийского бога и густые вьющиеся локоны, украшенные венком из полевых маков. Говорят, что моделью для нее послужил я сам в возрасте двадцати пяти лет, но на ее мраморном основании высечено лишь одно имя греческими буквами: ??????.
1923
В склепе
Перевод Валерии Бернацкой
На мой взгляд, глупо считать, что с простыми людьми никаких других историй, кроме банальных, случиться не может, а ведь именно так думают многие. Стоит вам упомянуть о некой деревеньке, населенной янки, где гробовщик, недотепа и бедолага, остался по неосторожности в склепе, и читатель непременно будет ждать от вас немудреного анекдота с легким налетом гротеска. Однако в весьма заурядной истории, приключившейся с Джорджем Берчем, которую теперь, после его смерти, я могу поведать читателям, есть нечто, в сравнении с чем даже мрачнейшие из трагедий покажутся жизнерадостными побасенками.
В 1881 году Берч неожиданно закрыл свое дело и сменил профессию, не распространяясь о причинах, побудивших его к этому. Молчал и его врач, старина Дэвис, теперь уже почивший в бозе. Считалось, что болезнь Берча явилась следствием пережитого шока – в результате несчастного случая он оказался заперт в склепе на кладбище Пек-Уолли, где провел девять часов и выбрался откуда лишь с превеликим трудом. Все это чистая правда, но были в этой истории и другие, более мрачные подробности; как-то Берч, будучи мертвецки пьян, поведал мне о них. Думаю, он рассказал мне всю правду потому, что я был его врачом, к тому же после смерти Дэвиса его неодолимо тянуло поделиться с кем-нибудь еще. Ведь он был старый холостяк – ни родных, ни близких.
До 1881 года Берч оставался деревенским гробовщиком, но даже среди людей этой профессии выделялся своей черствостью и примитивностью. Качество его работы оставляло желать лучшего и сегодня никого бы уже не удовлетворило, по крайней мере в городах, но думаю, что и жители Пек-Уолли содрогнулись бы, узнай они, как бессовестно ловчит этот мастер ритуальных услуг, когда ему заказывают дорогую обивку, невидную на дне гроба, или с каким небрежением укладывает покойников в их последнее пристанище. Нет сомнений, Берч был неряшлив, равнодушен к людскому горю, никуда не годился в профессиональном отношении, и все же, мне кажется, он не был злым человеком. Просто он был от природы груб – туповатый, ленивый, жадный, что и привело впоследствии к несчастью, которого могло бы и не случиться. У него напрочь отсутствовало воображение, которое не позволяет рядовому обывателю, получившему хоть какое-то воспитание, выходить за общепринятые рамки приличия в своем поведении.
Я не мастер рассказывать истории и поэтому не знаю, с чего начать свое повествование. Может, всего уместнее начать с того холодного декабря 1880 года, когда земля промерзла до такой степени, что могильщики поняли: до весны им не выкопать ни одной могилы. Деревушка, к счастью, была небольшая, умирали не часто, и потому все клиенты Берча могли найти себе временный приют в старом общем склепе. Наш гробовщик от холодной погоды вовсе разленился и, кажется, превзошел в халатности самого себя. Еще никогда не сбывал он таких утлых и нескладных гробов и совсем не обращал внимания на проржавевший засов склепа, дверцей которого он то и дело хлопал с вызывающей небрежностью.
Наконец пришла весна, и для девятерых умолкших навеки заложников зимы, терпеливо ждавших в склепе часа своего упокоения, были выкопаны могилы. Берч, хоть и не любивший хлопот, связанных с погребением мертвецов, все же одним ненастным апрельским днем начал перевозить гробы, но прекратил работу еще до полудня по причине сильного дождя, беспокоившего лошадь. Он успел доставить к месту вечного приюта одного лишь Дариуса Пека, девяностолетнего старца, чья могила была недалеко от склепа. Берч решил, что перевезет остальных завтра, начав с низкорослого Мэтью Феннера, чья могила также была неподалеку, но проканителился целых три дня, вплоть до пятнадцатого – до Страстной пятницы. Лишенный всяких предрассудков, он не побоялся работать в святой день, хотя впоследствии его никакими силами нельзя было заставить чем-либо в такие дни заниматься. События того вечера, несомненно, очень его изменили.