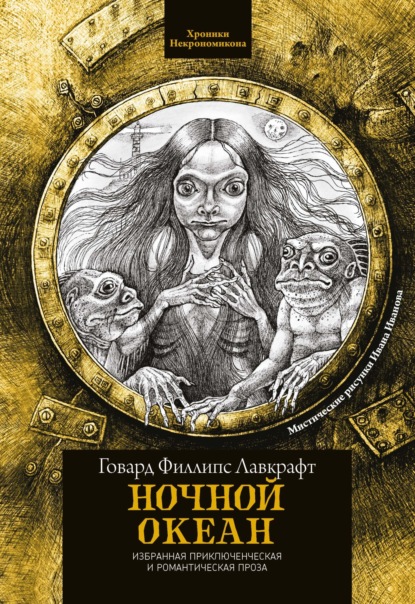По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ночной океан
Автор
Год написания книги
2023
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Итак, мы отправили ящик из Нома и добрались до Лондона без особых приключений. Впервые за все время удалось привезти с собой нечто такое, что способно было вернуться к жизни. Я не стал выставлять Его среди экспонатов. Предстояло сделать кое-что более важное. Он привык быть божеством и нуждался в подношении. Конечно, я не мог предоставить Ему таких жертв, которые Он взыскал в древности, ибо их попросту не существует более. Но что есть основа жертвы, основа жизни? Кровь! Кровь была всегда – недаром ее, людскую ли, звериную, предложенную в верном порядке, поминают в бесчисленных обрядах и даже в лемурийских ритуалах по призыву духов стихий. Она столь же стара, сколь и Земля!
При этих словах выражение лица рассказчика сделалось столь отталкивающим, что Джонс невольно поерзал на стуле. Роджерс, подметив тревогу гостя, усмехнулся краем губ:
– Вы-то не нервничайте. Тварь эта уже почти год как у меня. Я испробовал столько подходов! Орабона-то мне не сильно помогал – сказал, будить такое создание нам не должно. Боится последствий – а потому ненавидит Его! Всюду таскает с собой револьвер – думает, эта игрушка, коли случится что, спасет ему жизнь! Столько времени прошло, а он так и не понял, с Кем мы имеем дело. Пусть только попробует, впрочем, начать махать этой штукой! Убейте монстра, говорит он. Сделайте чучело, говорит он! Ну уж нет, у меня иные планы, и им я пока что верен – вопреки Орабоновой трусости и вашему возмутительному скепсису. Я долго взывал к Нему, и вот на прошлой неделе произошло чудо. Он… Он принял мою жертву!
Сказав это, Роджерс хищно облизал губы, а Джонс замер от ужаса и не мог даже пошевелиться. Глава музея опять замолчал, поднялся со своего места и пошел в угол комнаты, где на полу, прикрывая некий объект, лежал отрез мешковины, к которому он часто обращался взглядом во время своего рассказа.
Роджерс нагнулся, приподнял угол ткани и произнес:
– Вы-то над моими словами знай себе потешались. Так вот вам кое-какие факты, дорогой мой сэр. Орабона говорил, вы в музее собачий визг намедни услышали. Ну, смотрите…
Джонс вздрогнул. Несмотря на все свое любопытство, он был бы рад убраться отсюда, не дожидаясь никаких объяснений, проливающих свет на те обстоятельства, которые так озадачили его еще несколько часов назад. Но Роджерс был неумолим. Он начал медленно поднимать край ткани, под которой лежала раздавленная, бесформенная масса, и Джонс даже не сразу сообразил, что это такое. Когда-то, судя по всему, масса была живым существом, которое какая-то невероятная сила сплющила, высосала всю кровь, пронзила тысячью острых жал и переломала все кости. Внезапно Джонс понял – перед ним были останки собаки, крупного светломастного пса. Породу определить было невозможно, поскольку животное изуродовали самым непотребным образом. Почти вся шерсть была будто выжжена кислотой, обнаженная бескровная кожа изобиловала бесчисленными круглыми отверстиями от засосов и проколов. Какие пытки могли принести подобные результаты, трудно было вообразить.
Отвращение, переполнявшее Джонса, вырвалось наружу, и он вскочил с места с яростным криком:
– Да что с вами не так, Роджерс? Это же садизм, чистой воды садизм!
Хозяин музея, недобро усмехнувшись, бросил ткань вниз и льдистым, самоуверенным взглядом встретил напор разгневанного гостя.
– С чего же вдруг вы, друг мой недалекий, решили, что это я сделал? Верно, с нашей, ограниченной, человеческой точки зрения результат непривлекателен, а что из этого следует? Да, действие бесчеловечно, но Он и не претендует на статус человека. Жертва – лишь предлог. Я пожертвовал этого пса Ему. И то, что вы видите, – результат Его действий, а не моих. Он нуждался в питании посредством предложенной ему жертвы и принял ее в свойственной Ему манере. Хотите, я вам покажу, как Он выглядит?
Пока Джонс медлил в нерешительности, Роджерс вернулся к столу, взял фотографию, лежавшую изображением вниз, и, испытующе глядя, протянул Джонсу. Тот машинально принял ее и столь же бездумно принялся рассматривать. Но уже в следующий миг взгляд его обострился и напрягся – поистине демоническая сила заснятого объекта леденила кровь.
Определенно, Роджерс здесь превзошел самого себя в создании чудовищ! То было произведение несомненного гения – пусть даже злого, – и Джонсу вдруг захотелось изведать реакцию публики на подобный инфернальный шедевр. Право, подобный образ вряд ли имел право на существование – быть может, сам творческий процесс вверг Роджерса в безумие и окончанием своим породил манию языческого поклонения, приведшую к бессмысленным и беспощадным последствиям. Лишь холодный ум способен был противостоять коварному искушению, какое несло в себе это чудовище, эта чумная греза, болезненное представление об ультимативном порождении злого умысла юной Матери-Природы.
Монстр опирался на полусогнутые конечности, застыв на краю некоего диктаторского резного трона. Подобный могло бы пожаловать своему попирателю целое поколение людское, взращенное безумием и паникой; сам проект ужасал своей дерзкой гигантоманией. Даже присев, чудовище на троне – прямоходящее скорее всего, хоть по позе и сложно было о таком судить, – вдвое превосходило рослого Орабону, заснятого подле него. Скругленное туловище идола обладало шестью длинными суставчатыми конечностями, переходившими в клешни; его венчала столь же круглая голова с завитым хоботком и тремя застывшими, мутными глазами, обрамленная пучками жабр. Большая часть туловища была покрыта тем, что сперва представлялось мехом, но при тщательном рассмотрении оказывалось порослью темных, гибких щупалец, оканчивавшихся полураскрытыми, словно для поцелуя, губами. На голове и у хоботка придатки отличались большими длиной и толщиной, а также витыми венозными узорами.
Наделять черты подобной твари выражением было странно, но Джонсу отчего-то казалось, что в треугольнике выпученных глаз и хищно протянувшемся хоботке определенное выражение и некий посыл точно существуют и просматриваются. Алчность, безумие и жестокость, возведенные в запредельный, недоступный для человеческих чувств абсолют, изливались из зрачков чудовища. Никогда бы не подумал, что такой образ может физически существовать, думал Роджерс, но вот она, настоящая фотография! Сколько сил и таланта, должно быть, вложил в эту работу Роджерс!
– Что думаете? – испросил глава музея, вторгаясь в ход мыслей Джонса. – Понимаете теперь, почему Его иногда называли Тысячей Смертельных Лобзаний? Понимаете, что стало с этим жертвенным псом? Ему нужна кровь, и он попросит еще. Он подобен божеству, и я отныне – жрец! Йа! Шаб-Ниггурат! Черная коза и ее Легионы Младых!
Джонс, испытывая смешанное с отвращением сочувствие, отложил фотографию.
– Послушайте, Роджерс, так дело не пойдет. Всему есть пределы. Это, конечно, великое произведение, не побоюсь сказать – грандиозное, но оно, очевидно, плохо на вас влияет. Нет нужды длить плохое – пусть Орабона демонтирует фигуру, а вы выбросьте ее из головы. И разрешите мне порвать этот ужасный снимок.
Роджерс моментально выхватил фотографию из рук Джона и спрятал в стол.
– Да что же вы за дурак такой! Неужто все еще думаете, что Он – подделка? До сих пор считаете, что я сделал Его сам и что все мои фигуры – лишь мертвый воск? Рази вас гром! Да вы, оказывается, глупее, чем была бы ваша восковая копия! Теперь у меня есть неоспоримое доказательство, и оно вам скоро будет представлено! Не сейчас, чуть позже – Он еще не готов к очередному подношению. Но скоро… скоро вам не останется даже шанса усомниться в Его мощи!
Когда Роджерс вновь взглянул на загадочную дверь с тяжелым висячим замком, Джонс взял свою шляпу и поднялся со скамьи.
– Будь по-вашему, Роджерс, я подожду. Сейчас мне все равно пора уходить. Я еще зайду завтра, а вы пока подумайте над моим советом. Может статься, он покажется вам разумным. Спросите Орабону, что он думает по этому поводу.
Роджерс злорадно усмехнулся:
– Отступаетесь? Испугались! Вот, значит, чего стоит вся ваша бравада… Значит, лишь мертвый воск, а от доказательств иного – бежите… И чем вы лучше тех дутых смельчаков, что на спор остаются на ночь в музее, но уже через час начинают скулить, вопить и просить о том, чтоб их выпустили? Спросить Орабону, значит… да этот слизняк только и делает, что строит мне козни! А вы-то – вы-то с ним, вестимо, заодно! Не хотите, значит, чтоб Он воцарился!
– Никто вам зла не желает, Роджерс, – спокойно держал ответ Джонс. – Ваших восковых детищ я не страшусь – более того, я влюблен в ваши мастерство и фантазию. Я просто клоню к тому, что слишком уж жарок наш сегодняшний спор – не мешало бы отойти…
Но Роджерс не ушел от прежней темы:
– Значит, не боитесь, но поспешаете! Смех, да и только! А может быть, раз уж смелости вам не занимать, здесь же, в музее, и переночуете? Что вам до всех моих выдумок!
– И вовсе я не тороплюсь, – чуть раздраженно заметил Джонс, глядя главе музея прямо в глаза. – Но ради чего мне здесь оставаться? Что это докажет? Если и есть причина, по которой я ухожу, то лишь одна: спать с удобством тут не выйдет. – Тут Джонса осенило: – Послушайте, Роджерс, а ведь и правда: что толку мне оставаться здесь на ночь, если в итоге каждый останется при своем? Предлагаю спор: если я спокойно перенесу ночное дежурство, вы возьмете отпуск ото всех ваших дел, выбросите этот вздор об оживающих скульптурах из головы, а Орабоне поручите уничтожить этот ваш новый экспонат. Как вам такие условия?
С ответом Роджерс не торопился: было видно, как много противоречивых эмоций боролось в нем. Наконец он заговорил; голос его дрожал от нервного напряжения:
– Недурно, недурно… очень недурно придумано! Продержитесь ночь – и я сделаю все так, как вы велите. Но только если вы продержитесь, никак иначе! Сейчас мы сходим куда-нибудь поужинать. Когда вернемся, я запру вас в выставочном зале и уйду домой, а утром вернусь – даже раньше Орабоны, который приходит сюда за полчаса до открытия… Вернусь – и проверю, как у вас идут дела. Но не стоит искушать судьбу, если ваш скептицизм не столь тверд, сколь кажется, Джонс! Все ваши предшественники не выдерживали и отступали. Я и вам даю такую возможность. Если будете громко стучать во входную дверь, непременно привлечете внимание констебля. Сдается мне, вам недолго тут спокойно сидеть – вам ведь находиться в одном здании с Ним, пусть даже в разных залах…
Роджерс поднял с пола мешковину, завернул в нее останки собаки и, подхватив свою отвратительную ношу, направился к двери, выходившей на грязное задворье. В центре двора имелся канализационный люк, и Роджерс откинул его столь привычным движением, что Джонсу стало не по себе. Мумия пса канула в забвение клоакального лабиринта. Зябко поведя плечами, Джонс невольно отступил от своего мрачного визави.
По взаимному соглашению они договорились не обедать совместно, а встретиться в одиннадцать у дверей музея. Джонс поймал кэб и вздохнул немного свободнее, когда пересек мост Ватерлоо и увидал впереди ярко освещенный Стрэнд. Он пообедал в тихом уютном пабе, – после чего отправился к себе на Портленд-Плэйс, чтобы принять ванну и захватить кое-какие вещи. Интересно, чем сейчас занят Роджерс? Джонс знал, что тот живет на Уолворт-роуд в огромном мрачном особняке, полном малоизвестных и запретных древних книг, всяких оккультных принадлежностей и восковых изваяний, которым не выискалось места в музее. Орабона, насколько было известно Джонсу, тоже жил в том доме в отдельных апартаментах.
Ровно в одиннадцать Джонс подошел к дверям музея на Саутворк-стрит и увидел ожидавшего его Роджерса. Оба были немногословны, но каждый ощущал некое напряжение, словно предвещающее беду. Они пришли к соглашению, что местом предстоящего ночного бдения будет сводчатый выставочный зал. Роджерс вовсе не настаивал на том, чтобы Джонс расположился в отгороженном алькове ужасов.
Потушив весь свет с помощью рубильника в мастерской, глава музея, даже не подав руки на прощание, вышел во двор через дверь мастерской, запер ее за собой и поднялся по стертым ступенькам на тротуар. Когда его шаги стихли, Джонс понял: долгая, утомительная вахта – оговоренная в затеянном им споре ночь в музее – по-настоящему началась.
II
Позже Джонсу, пребывающему в кромешном мраке сводчатого подземелья, оставалось лишь сетовать на свой ребяческий задор. Первые полчаса он развлекался, включая-выключая электрический карманный фонарик, но теперь просто сидел в темноте на одной из скамеек для посетителей – не без нервного напряжения. Вспышки выхватывали из мрака то одно, то другое воспетое в воске непотребство – гильотину, безымянного уродца-гибрида, бородатый лукавый лик убийцы, бледное тело с перерезанным горлом. Джонс осознавал, что кругом него – всего-навсего безобидный воск, которому придали форму и вид чего-то отталкивающего… но по истечении первого получаса он предпочел бы вовсе не видеть экспонаты музея.
И угораздило же его поддаться на уговоры невротика! Не проще ли было спровадить Роджерса врачам или и вовсе оставить в покое? Но каким же ярким талантом отличался этот сумасброд, ярким и неповторимым! Джонс лишь проявил творческое сочувствие – сочувствие человеку, способному измыслить и создать ужас настолько жизнеподобный, что в ужасности своей тот обретал величие; хотелось найти способ спасти его создателя от прогрессирующей мании, не прибегая к суровым мерам. Хозяин музея обладал буйным воображением Сайма или Доре вкупе с высочайшим мастерством Леопольда Блашки, дрезденского стеклодува, виртуозно и с дотошностью ученого воспроизводившего мельчайшие детали в своих творениях. Для мира чудовищ Роджерс сделал столько же, сколько Блашка с его на диво точными моделями растений из разноцветного стекла – для ботанической науки.
Далекий бой часов возвестил полночь. Сей звук, принадлежавший жившему привычной жизнью миру за пределами музея, несказанно взбодрил Джонса. В смахивающем на крипту сводчатом зале музея и подвальная крыса показалась бы неплохим компаньоном, но Роджерс однажды похвастался, что особая атмосфера музея извела не только крыс и мышей, но даже и насекомых. Похоже, в этом он не обманывался. Одиночество и тишина не нарушались ни на йоту – хоть бы что-то издавало здесь звук! Джонс пошаркал ногами, и эхо вернулось к нему из абсолютной тишины. Закашлялся – но в дробном отзвуке услыхал насмешку закрытого на ночь музея. Он поклялся себе не заводить разговоров с самим собой; они – верный признак неврастении. Но время, тянувшееся изматывающе медленно, словно располагало именно к такому досугу. Казалось, что прошло несколько часов с тех пор, как он в последний раз глядел на часы, но смотрите-ка – полночь, и только!
Многое он дал бы за то, чтобы чувства не обострились вдруг столь сверхъестественным образом – заставляя реагировать на самые слабые, на самые эфемерные шорохи и движения воздуха. Временами до слуха Джонса доносился неясный шелест – по-видимому, с ночных улиц; и тогда он начинал думать о таких неуместных вещах, как музыка незримых сфер и непостижимая, таинственная жизнь в других измерениях, чьи обитатели, возможно, порой могут прорваться и в наш мир. Но ведь это прерогатива Роджерса – рассуждать о подобных вещах…
Патина цветов пред глазами Джонса, напряженными темнотой, с течением времени оседала на неких фигурах с престраннейшими очертаниями. Джонса всегда интересовало, чем вызваны к жизни эти размытые цвета, берущиеся незнамо откуда, будто возмещающие непроглядность мрака. Обычно беспорядочные, цветовые пятна облепили некие фигуры, будто бы даже движущиеся совсем рядом с ним. Двери и окна зала были заперты, но воздух тут не был абсолютно неподвижен. Гулял странный стылый сквозняк, пахнущий – или это лишь казалось? – соленой водой и какой-то невыразимой затхлостью. И откуда наползает этот холод? Джонсу все это не нравилось. Восковые фигуры не могли источать такой аромат – то ведь не образцы из музея естественной истории! Не все экспонаты здесь – мертвый воск, иные имеют естественное происхождение – так утверждал Роджерс… Надо полагать, именно эти его бредни навлекли на Джонса обонятельные галлюцинации.
Сейчас нельзя дать воображению распалиться… но одиночное бдение во мраке угнетало, и даже далекие куранты приобрели похоронно-торжественное звучание. Джонсу вспомнилась безумная сцена, снятая Роджерсом: подземелье с загадочным троном, якобы часть развалин, чей возраст насчитывает три миллиона лет, в заброшенных и труднодоступных арктических пустынях. Возможно, Роджерс бывал на Аляске, но эта картина, безусловно, была созданной им самим декорацией. Иначе и быть не могло – учитывая все те тщательно воспроизведенные оккультные символы. А та чудовищная фигура, якобы снятая им с трона, – каков полет лихой фантазии! Джонс задумался, насколько он на самом деле далек сейчас от безумного шедевра из воска – вероятно, тот хранился за тяжелой, запертой на висячий замок дощатой дверью, ведущей куда-то из мастерской. Что толку думать о ней, если всё в ней – лишь воск? Местные изведанные чудовища из закрытой для всеобщего посещения музейной секции едва ли менее ужасны, чем циклопический дьявол – при здравом-то рассуждении.
По мере того как тянулась очередная четверть часа, близость бесчисленных восковых фигур все больше и больше действовала Джонсу на нервы. Он так хорошо знал музей, что не мог избавиться от привычных образов даже и в кромешной тьме – более того, тьма добавляла запомнившимся зрелищам большей объемности. И будто бы скрипела гильотина, и зверской гримасой грозил бородатый лик Ландрю, убийцы пятидесяти жен, и булькало рассеченное горло мадам Демерс, и жертва войны, безногий и безголовый труп, пыталась подобраться все ближе и ближе на своих кровавых обрубках. Джонс зажмурился, пытаясь унять воображение, но проку то не принесло – фантомы светотени перед мысленным взором все более тревожили.
Тогда он попытался удержать отвратительные виды, которые прежде пытался отвадить, – старался удержать, ибо они уступали место еще более непотребным. Невольно память стала восстанавливать чуждые облики чудовищ-нелюдей, таившихся в темных углах, и все сильнее делалось убеждение, что сонм фантасмагорических уродцев окружает его плотным кольцом, наступая. Цаттогва, черный и страшный, выпростал вперед угрожающие дуги рудиментарных конечностей, а тощий, будто отлитый из каучука Ночной Страждец развел в стороны крылья, как если бы намеревался сомкнуть их вокруг жертвы – и задушить ее внутри этого кожистого савана. Джонс с трудом сдерживал крик; он понимал, что в страхе своем уподобился ребенку. Лишь взрослому под силу обуздать суеверие – а он все-таки человек солидных лет. Осознание помогло немного, и он снова зажег фонарик – сколь пугающими ни были сцены, возникавшие в луче фонаря, они все же не шли ни в какое сравнение с тем, что рисовало в полной темноте его разыгравшееся воображение.
Но недолго длилось его облегчение – ведь даже при свете Джонс не мог избавиться от иллюзорного впечатления, твердящего: завесы огороженного алькова что-то колеблет. Память услужливо подбросила ему внешность иных наиболее выдающихся обитателей закрытой секции. Что, если Йог-Сотот – пусть и выглядел он всего-навсего массивным скоплением переливающихся всеми цветами радуги сфер, на него не получалось смотреть без дрожи даже днем, – уже близится к нему, форсируя последнюю преграду – эту ненадежную ткань? Что, если Гнофхе, плотоядный зверь гренландских льдов (длиннорукий и косматый, шестилапый, но способный ходить и на своих двоих, как человек), изготовился пропороть занавесь своим рогом – там, в правом дальнем углу? Надеясь избавиться от подозрений, Джонс решительно шагнул с включенным фонариком к зашторенному приделу. Конечно, все страхи были сугубо иллюзорны, но все-таки… разве не подрагивают щупальца на лице Ктулху еле заметно? Их податливость не была секретом для Джонса, но разве сквозняка, вызванного приближением человека, достаточно, чтобы привести эти восковые придатки в движение?
Вернувшись к себе на скамью, несчастный Джонс смежил веки, предпочтя слепоту созерцанию. Куранты разродились единственным ударом. Всего лишь час? Джонс подсветил фонариком собственные карманные часы и убедился, что это так. До утра целая вечность!.. Роджерс появится в восемь, до Орабоны. Задолго до его прихода на улице рассветет, но в подвал не проникнет ни единого лучика света. Все окна заложены каменной кладкой, за исключением трех тусклых прямоугольников, глядящих во двор из мастерской. Будь проклята его самонадеянность – и будь проклят этот бессмысленный спор…
Теперь Джонса преследовали уже и слуховые галлюцинации – он мог поклясться, что из-за закрытой и запертой двери мастерской отчетливо слышатся осторожные, крадущиеся шаги. Ни в коем случае не стоило сейчас вспоминать превозносимого Роджерсом воскового идола. Скверная вещь – уже довела до одержимости Роджерса, и один только взгляд на ее фотоснимок пробудил в воображении жуткие кошмары. Однако, как бы там ни было, тварь не могла находиться в мастерской: она надежно схоронена за дверью с навесным замком и магическим символом. Значит, «шаги» – нехитрая игра обманутого слуха.
Но вот Джонсу показалось, будто в двери мастерской начал медленно поворачиваться ключ. Он зажег фонарь и с облегчением отметил, что тяжелая деревянная панель на шести петлях находится в прежнем положении; снова погасил свет и закрыл глаза – но возвратиться к слепому ожиданию ему не дал скрип.
Скрип не бутафорской гильотины, а осторожно отворяемой двери мастерской.
Лишь бы не выдать себя криком! Сорвавшись, он растеряет остатки самообладания. Нужно немедленно взять себя в руки – иначе собственная впечатлительность уничтожит его прежде любого врага, реального или кажущегося. Разве не вышло у него, благодаря только лишь трезвости ума и бесстрашию, отвадить иллюзию надвигающихся из мрака чудовищ?
Шаги приближались. Они подступили вплотную, и решимость Джонса улетучилась. Он не закричал – дерзкий вызов больше походил на хрип: