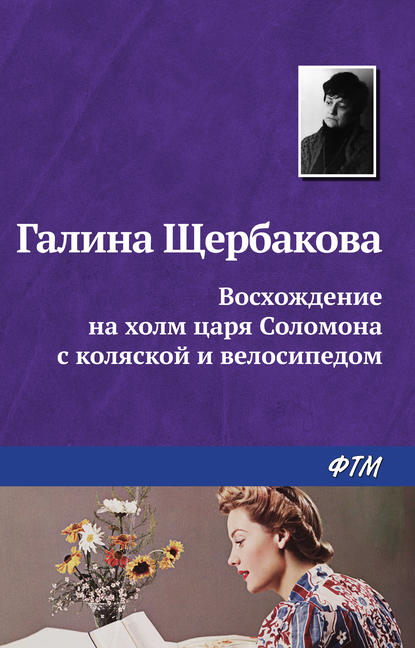По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Восхождение на холм царя Соломона с коляской и велосипедом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Помру? – спросила Лилька, которой уже нагадывали и короткую жизнь, и длинную, и бедность, и богатство, и двух мужей, а у нее уже был четвертый, и троих детей, а у нее была двенадцатилетняя дочка, за которой вослед вытащили из нее все рожальные причиндалы, и была она теперь свободна от страха забеременеть, и никакой печали о неродившихся ребеночках у нее сроду не было. Так что поп-расстрига мог ее пугать, как хотел, мог ей морочить голову, Лилька была свободна от мыслей, как оно там будет…
Но мы запомним этот момент развернутой к солнцу ладошки. Как запомним лежащую на шляху ногами к Киеву Руденчиху, двух Хаимов, сомлевшую у тахана-мерказит Анну Лившиц и то, что мы так шутя-играючи натянули полог на целое столетие и теперь нашли себе место в центре жизни Лильки Муратовой, которая читает статейку расстриги, выкусывая из ладошки пинг-понговые мозолики.
Вечером она положила на стол редактору статью Вани, тот привычно, даже, можно сказать, буднично приспустил ей трусики и – не подумайте плохого! – почесал ей лобок, такая у них была игра, потому что другой быть не могло: редактор был слегка импотент, слегка трусоват, но так чтоб совсем от всего отказаться – силы воли не хватало.
Правда, после этого он шел по лицу багровым пятном и прилично скотинел глазом, но и это кончалось столь же быстро, сколь быстро и начиналось. К тому же у редактора была фамилия Минутко и, видимо, она все и определяла, хотя Лилька давно всем объяснила, что никакой он не Минутко, Минутки теперь все, он – Секундко. Но определение не прижилось. Неудобные для произношения встали буквы, а мы не какие-нибудь там венгры, чтоб ломать себе язык на слепившихся согласных. Лилька оправила юбчонку, редактор незаметно нюхнул подушечки пальцев-игрецов, пятно с лица его сошло, и он сказал, что двухкомнатную квартиру им в этот раз не дают, а дают однокомнатную, так что «извините, Лилия Ивановна».
– Хочешь – жди следующего дома.
– Я тебя сейчас убью, – сказала Лилька и взяла каслинского Дон Кихота, подаренного редактору на пятидесятилетие. Дон был большой, и если прицелиться его оттопыренной рукой в висок… Почему ей хотелось убить редактора именно так – рукой Дон Кихота, когда куда как легче было это сделать основанием скульптуры прямо по лысой башке, на которой висок – в сущности малость. В него еще попади.
Минутко пожевал собственный рот – так он обижался. Он и правда боролся за двухкомнатную квартиру для Лильки, заведующей отделом, ее мужа, сотрудника чумного института, и их ребенка – девочки Майи. Но ему сказали: какие претензии? Двухкомнатные рассчитаны на четверых. Не меньше! Сам посчитай: пять на четыре – двадцать, плюс еще пять на хозяина. Это же арифметика.
«Это арифметика, – думала Лилька, проживая в автобусе свои сорок минут.
– Эта лобковая сволочь даже не подозревает, как он прав».
Тут надо сказать: писать о метрах остобрыдло. Хорошо бы в качестве завязки взять что-то изящное, тонкое, какой-нибудь файф-о-клок. Но ни туда, ни сюда. Мы все будем подрываться на этой теме, как на мине. Это такая наша народная забава. Но чтобы слегка отвлечься от противного и навязшего, возьмем Лильку в руки – это приятно! – и выясним, откуда у нее растут и ноги, и притязания.
…Первым мужчиной в ее жизни был одноклассник, призер всех и всяческих математических олимпиад. Он ей объяснил про количество сперматозоидов и про теорию вероятностей, по которой только и может случиться беременность. Он не подозревал, что ей было плевать на это, что она так его обожала и так хотела, что математике просто рядом стоять не стоило. Она забеременела от первого же сперматозоида, и ей сделали аборт накануне выпускного сочинения. Обескровленная, синяя, с острой болью в крестце, она писала про то, что в жизни всегда есть место подвигу. Ни Боже мой! Никаких аллюзий не было и близко. Это была самая легкая, бездумная тема, которую не надо было знать, а просто сидеть и навязывать пучки слов и фамилий. Учительница литературы очень обиделась на Лильку за этот ее выбор. Отличница, она должна была писать про вольность русских поэтов, а она возьми и напиши то, про что пишет всякий троечник. Учительница подло заподозрила Лильку в расчетливости, и ей, носителю высоких мыслей и чувств, было противно. Она столько вложила в эту девочку своего, личного, можно сказать даже тайного, а та возьми и сделай такой выбор, тогда как у нее – у Лильки – просто не должно было быть выбора. Лилька кожей чувствовала обиду литераторши, когда та сновала между рядами и остро пахла «Серебристым ландышем» и сукном юбки.
Лилька писала автоматически, думая совсем о другом. О том, как она лет в десять поняла: всегда надо выбирать вещи простые, они удобней, они долго носятся. Какому ненормальному человеку удастся поместить в головке теорию вероятностей? А вот арифметику «подзалета» знать надо. И она знала! Знала. Ей мать сто раз говорила, что дела на миг, а неприятностей на всю жизнь. Правда, мать не говорила, как поступать с жаром, который распирает изнутри и тебе только и надо, чтоб это случилось, потому что иначе спятишь, сама изорвешь себя ногтями… Нет, про такое говорено не было… Такого как бы не было вообще. Получалось, что десятилетняя Лилька была умней семнадцатилетней. Маленькая, она рассматривала в зеркальце все свои сморщенные складочки и таинственный ход, в который она легонько ткнула пальцем и ни-че-го не произошло. Но потом случилось с этим призером-чемпионом, и она забыла, что была умная, а стала какой-то хищной росянкой, жаждущей поглощения.
С того выпускного сочинения, когда Лилька абсолютно инстинктивно – как пригнуться, чтобы не удариться головой, – выбрала самую забубенную, самую примитивную тему, она навсегда отвергла для себя путь сложный.
Когда математический мальчик на выпускном вечере сделал ей предложение руки и сердца «как порядочный человек», она захохотала ему в лицо. Она сказала ему, что не сможет жить с человеком, у которого в голове дурь в виде теории вероятностей, что она любит – обожает! – арифметику, где дважды два никогда не подведут, что таблица умножения во сто крат важнее таблицы логарифмов, что мальчиков, которые рисуют формулы, надо сбрасывать со скалы, чтоб другим неповадно было. Одним словом, она такого нагородила, что мальчик назвал ее ничтожеством, и тогда она с полным на то основанием двинула ему кулаком по носу, да так, что призер захлебнулся кровью, хорошо, что аттестаты уже были в родительских сумках. Их просто выставили из школы, а учительница литературы, все еще обиженная на Лильку за измену глубоко прекрасному, сказала:
– Чтоб твоей ноги…
– Да пошла ты, – перебила ее Лилька, хотя логики в словах не было никакой: это она навсегда покидала школу, а учительница оставалась. Но Лильке было хорошо в каком-то новом, освобожденном от лишнего теле.
Но ничто не канет навсегда. И воля одного непременно обернется неволей другого, это просто элементарная физика. У Лильки была младшая сестра Астра, которая попала потом в руки оскорбленной Лилькой литераторши, и бедной девочке мало не показалось. Выше тройки она не зарабатывала никогда, хоть головой об стену бейся. В результате – отчаяние, обида, все пошло комом, и Астра едва-едва поступила в швейный техникум, такую печать неспособности поставила на ней страшная месть. А ведь если разобраться, то все началось с теории вероятностей, которой заморочил голову один математический мальчик девочке-росянке.
Тут надо ввести еще одно объяснение, чтоб было все ясно впоследствии. Имя Астра. Мама хотела девочек-цветов. Если бы были мальчики, то, возможно, они стали бы Эльбрусами, Эверестами, и это определило бы их стремление ввысь, что-то в этом духе… Девочкам же надлежало цвести и пахнуть. Поэтому, во-первых, Лилия. Поэтому, во-вторых, Астра, хотя такого имени нет вообще. Но Роз зналось слишком много, и мама колотилась между Азалией и Астрой, и в конце концов остановилась на Астре, Азалия показалась чересчур. Беда с этими романтически настроенными мамами и их неуемной фантазией. Астра была неудачницей по жизни, ей в восьмом классе объяснили, что она ничтожество, бедный ребенок поплакал-поплакал и принял свою судьбу, потому что куда же от нее денешься?
Лилька же взнуздала в себе волю и храбрость и была всегда и всюду первой.
На первом курсе университета она вышла замуж в первый раз. На втором – во второй. Если учесть, что это было строгое время и оно любило наказывать разное индивидуальное баловство, то естествен вопрос: как? Как ей, комсомолке, удались такие пируэты? А вот так. Первый муж быстро попался на болтовне по поводу давно прошедшей финской войны, с ним по-хорошему поговорили – и ничего больше, но Лилька шкурой («арифметикой») почувствовала, что ее муж-интеллектуал может ей дорого стоить, к тому же семейная жизнь на частной квартире в холодной коридорной выгородке ничем таким особенным не показалась.
Развелись летом к радости мамы, которой зять не нравился длинностью, сутулостью, длинным ногтем на мизинце и распадающимися на две неравные части прямыми бесцветными волосами. «Это не муж», – сказала мама. И хоть сказала она так, считай, во вторую встречу с зятем, в Лильку диагноз попал. Она так его и звала, вроде бы с юмором: «Немуж! Немуж!» Университет тогда был захвачен событиями масштабными – докладом Хрущева. Потому на фоне большого катаклизма мелкое обстоятельство Лилькиной жизни потрясения не вызвало.
Не успели людишки оправиться от речей и собраний, как Лилька прыгнула в койку преподавателю древнерусской литературы, некрасивому старому козлу, у которого дочь училась вместе с Лилькой. Лильке нравился доцентский дом, в нем устойчиво пахло высшим образованием – книгами, пылью, теплыми, свалявшимися кофтами, уже тогда бывшими «унисекс». Большая квартира была холодной, поэтому в ней часто пахло и горелым: это когда на включенный рефлектор падала газета или цеплялась та же безразмерная кофта. В первый же раз на Лильку напялили одну такую до самых колен, и это определило точку обзора для замороченного древностью доцента. Он увидел красиво вытянутые бутылочки Лилькиных ног – на ней как раз были длинные зеленые рейтузы. Больше никуда доцент смотреть не мог. Его откровенно сластолюбивый интерес был, можно сказать, нараспашку, но и жена, и дочь – как ослепли. А Лилька как раз напряглась и мысленно вымыла и вычистила квартиру.
Во втором замужестве неприятностей было гораздо более… Общественность, забыв о разоблачении культа личности, восстала против Лильки и ее старого нового ошалевшего супруга. Они жили у доцентской мамы, старухи еще более древней, чем наука сына. Она уже мало что кумекала, путала Лильку с внучкой и не сразу понимала, что за старик сидит у нее в кресле. Лилька мысленно вымыла и эту квартиру, такой тогда сидел в ней внутренний мойдодыр.
На помощь спятившему с ума от острых ощущений доценту было вызвано подкрепление в образе его младшего брата, который вынес за порог Лилькин фибровый чемоданчик, а доцент был скручен в прямом смысле слова и доставлен в «тихое место», где у него стало «много друзей». Партбюро поставило в повестку дня Лилькино личное дело, запахло крупным пожаром. Лилька сконцентрировалась, пошла в ректорат и забрала документы «в связи с болезнью матери». Бюро не успело очухаться, как Лилька исчезла в неизвестном направлении, вынырнула в Свердловском университете и на той же липе – болезни матери – стала тамошней третьекурсницей. Чистенький, без штампов, паспорт она заимела раньше, это ей недорого стоило. Начальник паспортного стола был хороший арифметический человек. Он слыхом не слыхивал про теории неожиданностей и невероятностей, войну с финнами считал справедливой, не читал Вересаева, даже не знал, кто это такой. От него пахло «Шипром» и чистой мужской плотью, а не свалявшимися кофтами, и Лилька подумала, что простота, она, может, и хуже воровства, зато безусловно лучше интеллигентской кажимости.
В Свердловске Лилька в третий раз, но как в первый, вышла замуж – за строительного инженера, который имел большую комнату в общежитии и держался за нее обеими руками, когда совершались попытки переселить его или в комнату поменьше, или дать ему подселенца. Инженер принимал бой и выигрывал его, поэтому Лилька сразу въехала в человеческие условия – двадцать квадратных метров, два огромных окна, отдраенный желтый краник над раковиной и туалет – три шага по коридору. Лилька купила трюмо и поставила его между окон. Теперь кто бы ни входил, прежде всего видел себя, и это имело большое организующее значение. К ним в гости люди старались приходить поприбранней, без этого нашего расейского абы как, помноженного на общежитские нравы.
Этот тип женщин – тип Лильки – многажды был показан в кинематографе и в литературе, и не стоило бы трудов опять и снова браться за захватанное. Лилька, едущая в автобусе в свои тридцать пять лет, – красотка будь здоров. На нее пялится весь мужской пассажирский состав, а женщины мысленно выкалывают ей ключами глаза и с мясом рвут сережки. Вокруг Лильки такое энергетическое поле, что какой-нибудь затрюханный Гондурас вполне мог бы существовать на ее электричестве. Эх, времечко, куда ты котишься…
Сегодня ей за шестьдесят, что называется, отработанный пар. Она – тетка с сумками. Она – «в Советском Союзе секса нет». Она – старая пердунья, которая зажилась на этом свете… Чтоб писать про это горе, его надо чуть-чуть забыть. Чтоб создался паз, расстояньице, может, через него, может, через время и всколыхнется жалость… Не сейчас… Но у нас другая история. Лилька в ней – точка обзора иных причудливых пространств.
6
Надо было срочно прописать мать. Та всегда жила с Астрой, потому что портнихи, как правило, люди оседлые, им не требуется знание других земель. Мать уже много лет вдовела, похоронив отца Астры. Тут надо сказать, что у Лильки и Астры были разные отцы. Лилькин канул в середине тридцатых, именно канул. Был, был – и не стало, не пришел с работы, но – люди видели – с нее ушел, его заметили на крыльце конторы, когда он опустил ногу на ступеньку, чтоб идти вниз, но вот свидетелей, что он сошел со ступеньки, не оказалось. Именно эта сдуваемость человека с ровного места, хотя нет, не ровного, крыльцо – место промежуточное между плоскостями… Так вот, сдувание человека с места промежуточного чуть не довело мать до наложения на себя рук. Спасла Лилька. Крохотная девуля требовала материнской жизни, и мать собралась с силами и выжила…
И тут к месту сказать, что в другие времена, когда исчезновение людей в пресловутые годы стало знаком качества семьи, некоей самоценностью фамилии, ни мать, ни Лилька не вставляли отца в автобиографии как этот самый знак, что тоже, мол, не лыком шиты. Воспарение с крыльца в момент опускания ноги больше годилось к предположению о похищении отца пришельцами с НЛО, но про них тогда слыхом не слыхивали, поэтому ни в коем случае для автобиографии отец не годился. А потом мать нашла себе другого, тишайшего из тишайших евреев Семена Лившица, специалиста по шахтерскому силикозу, играющего в шахматы и на скрипке и имеющего национально-горбатый нос. Его слегка презирали врачи других направлений – дантисты и гинекологи, – работа которых приносила куда больше уважения и денег, ибо всегда имела результат: вырванный зуб или удаленная киста. Силикоз же – вещь эфемерная, его нельзя подержать в руках, нельзя предъявить начальству как факт собственной нужности. Поэтому жил Лившиц тихо и, как теперь говорят, не возникал. Знал свое место. От него и Астра. Он погиб на фронте, и доводил девочек до ума уже третий материн муж. Такой весь из себя бычок-мужичок, маленький, крепенький и лобастый. Лилька скоро уехала учиться, стала строить жизнь по собственному разумению – а по чьему же еще? А мать и отчим так и куковали с Астрой. Та их обшивала, потом вышла замуж за шахтного технолога, потом родила Жорика. Это случилось раньше рождения Лилькиной Майки. Собственно, не будь Жорика, была бы Майка? Первый опыт, как мы знаем, был у Лильки не вдохновляющим, но тут племянник, курчавое дитя, так раззадорил какие-то неведомые силы, что Лилька стала ощущать пульсацию в сосках и какую-то влажную слабость от вида младенцев. Ей хотелось их нюхать, лизать, тискать, сердце ухало куда-то в область выходящих отверстий, одним словом, в той самой комнате, где между окнами стояло трюмо и посверкивал на солнце медный краник водопровода, и родилась Майка через пять лет после рождения Жорика.
Сейчас Жорику семнадцать, Майке одиннадцать с половиной, мать живет с Астрой, технолога нет и в помине. Уехал на севера за длинным рублем да так там и остался, прижился у какой-то коми-женщины и сказал, что «это хорошо». Правда, в алиментах был честен, что да, то да.
Лилька написала матери письмо, в котором без всяких обиняков сказала: «Ты всю жизнь жила для своей Астрочки, так вот расстарайся и для меня, и для Майки, моя дорогая. А то людям сказать стыдно…» Что стыдно, было неясно, но именно неопределенность обвинения ударила мать в сердце. Мы ведь боимся не того, что уже стоит на пороге, а того, что таинственно скребется, не имея лица. С тем, что есть, уж как-нибудь, туда-сюда разберемся, а там, где нам ставят три точки и на что-то намекают, – все. Сердце такого может не выдержать. Мать выписалась и примчалась к старшей дочери, Лилька прописала ее в два дня, явилась к Минутко-Секундко и шлепнула его по рыжей, пятнистой лапе материнским паспортом.
– Нас четверо, – сказала она. И боком потерлась о рукав начальника, как бы подбадривая его совершить традиционную шалость. Лилька тогда готова была пойти и на большее и предупредила секретаршу в приемной:
– Надя, у меня дело конфиде… Чтоб ни одна собака…
Надя хохотнула так, что задрожал графин с водой, и сказала, что, пожалуйста, ей не жалко, разве только придет Трофимыч, тут ей не устоять… Но это была редакционная хохма. Трофимыч – секретарь обкома по идеологии – был замечен в неожиданных появлениях там и сям. Поэтому, выпивая в кабинетах, люди закрывали стулом дверь. Предусмотрительность называлась «вот придет Трофимыч».
Лилька получила вожделенную двухкомнатную квартиру, перекрасила кухню, отциклевала пол, врезала «глазок», а однажды, сидя с матерью перед телевизором, сказала как бы между прочим, что теперь мать может вернуться к Астре.
А матери так понравилось жить в большом городе. Пять минут – и ты на набережной главной речки России. Вода в ней то отдает фиолетом, а то зеленью, густая такая вода, как настойка пустырника, и пахнет пьяно, не сказать чем, каждый раз по-разному. То разрезанным пополам грибком, то сохнущей после зимы бочкой, а бывает и спермой, от этого запаха у матери возникали молодые и забытые чувства, и ей виделся то беглец с крыльца, то канувший в войну специалист по силикозу, но весомей всего возникал недавно умерший третий муж-бычок, который был хорошим человеком, что там говорить! Взял ее с двумя девками и даже не задумался. И когда у этой дуры Лильки случился аборт в десятом, успокаивал и жалел и мать, и Лильку, а мог бы и выгнать девчонку, люди бы поняли. Такое люди понимают всегда.
Но умер… Болел несильно, кашлял, и на тебе – воспаление легких, и на тебе – осложнение, и на тебе – нет человека.
Тут же, в большом городе у реки, мать, что называется, отошла душой и приготовилась жить еще долго, долго, а Лилька качнула ногой и так, как бы между делом, предложила вернуться к Астре.
У Астры же в тот период возьми и случись шанс.
Объявился работник ОРСа, вдовый дядька, приезжий, местными связями не опутанный. Пришел шить себе костюм из ткани заказчика. Сестра щупала ткань – «дрек» (в смысле барахло), а не ткань. Глаз не поднимая на клиента, она пыталась по трубам штанин выяснить глубину личности заказчика, но картина в голове не складывалась, требовала расширения обзора, и Астра подняла глаза и увидела очки, что, конечно, не стало вдохновляющим открытием. Очки – они и есть очки. Они недостаток, во-первых, во-вторых и в-третьих. С ними неудобно жить, сильно наклонишься – и они могут упасть с потного лица. Как-то очень ярко это увиделось – падение очков с лица. И надо сказать, что потом так все и случилось, и через десять лет у Николая Сергеевича упадут очки, когда он, стоя на коленях, будет затягивать ремни Жориных чемоданов, и будет он в этот момент потный, и у Астры внутри все ухнет, потому что она испугается, что все это уже видела и заранее знала. Хотя в тот момент еще ничего страшного не произойдет: просто упадут очки, потому что на хрен разболталась дужка.
Но мы об раньшем.
Возник простой и естественный вопрос, как быть. Это вокруг Гамлета наворотили незнамо сколько, а у него целый замок, а может, и не один. У него что – с матерью одна комната на двоих, как у Астры? Николай же Сергеевич, возникший в вяло текущей жизни, так хорошо себя проявил, так вежливо пригласил в кино на содержательный фильм «Красная палатка», назад они возвращались медленно, и Николай Сергеевич сказал Астре, что жена у него была замечательный человек, жаль, что Бог не дал им деток, что после нее трудно представить кого-то, кто лучше, – на этих словах он крепко сжал локоть Астры, локоть бурситный, болючий, и она стиснула зубы, чтоб не заорать, стерпела умница… В результате слов, боли и выдержки получилось вполне убедительное предложение соединить судьбы. В отличие от старшей сестры Астра была женщиной нрава строгого, ее за руку никакой случайный мужчина взять не посмел бы, а уж о тех фокусах, что творила Лилька, Астра понятия не имела. Она бы померла, просто померла бы, пощекочи ее кто-нибудь… Да ей козу-козу было делать опасно, все эти шутейные атю-тю-сеньки… Могла бы и в глаз… Видимо, могла. Но не было случая.
Николай же Сергеевич поцеловал ей исколотые подушечки пальцев. Именно их…
На этом историческом моменте и вернулась мать. Вся обиженная, вся во внутренних слезах. Вот тут-то и возникает подспудно, всплывает, как град Китеж, тема Эльсинора. Интересно, сколько в нем квадратных километров? Тут и возникает озарение всей темы – именно у нас, на самой большой территории, возникла жилищная (в смысле – мало места) проблема. Острая нехватка пространства…
Поэтому Астра пишет гневное письмо Лильке и покупает матери (выписанной из домовой книги) обратный билет.
На процессах переезда – мать приехала «к старшенькой», а у той для нее уже билет обратный – она стала скукоживаться. Было в матери, еще хорошо, как выясняется, помнящей запах спермы, добрых семьдесят пять кило, а усохла до шестидесяти. И никто – никто! – этого не заметил. Даже она сама, перекручивая в который уж раз резинку в сползающих рейтузах, думала о качестве галантереи, в которую «забыли положить» главное – резиновую нитку, на усыхание же собственного тела внимания не обратила. У всех пламенем горела душа, до плоти ли было!
А тут случись… Лилькин четвертый муж (не Майкин отец, отчим) – ну ничего на это не указывало заранее! – собрал вещички, трусы к трусам, рубашки к рубашкам, в полиэтиленовый пакет (редкость по тем временам), набил комочки носков, громко хрустнул коленом и ушел. Ушел к знакомой еще по школе, с которой в младые лета не было ничего, а потом – раз! – встретились, и откуда что пошло-поехало. Развернула женщина собственного мужа в обратном направлении, Лилькиного же – в койку, а тот, дурак, и рад. Хотя квартира, выстраданная Лилькой, еще пахла свежей краской. Им самим положенной. Больше всего Лильку потрясло то, что он ее же обвинил во всех тяжких, хотя она – конечно, всякое было – оставалась в семейной постели и никуда из нее не собиралась, просто поддерживала время от времени организм иными, чем дома, мужскими витаминами. А этот – муж! – сказал как плюнул: «Мне твои блядки уже поперек всего. Я хочу иметь женщину, другими руками не захватанную». Лилька у него спросила: «Где таких дают?» Ну и узнала про школьную подругу – «после мужа, и не захватанную?!» И получила в ответ: да, именно… Светлая и чистая.
У Лильки в голове случился ступор, потому что она была убеждена: она хорошая, можно сказать, замечательная жена. У нее чистота и порядок, у нее заработок не ниже мужнего, у нее супы и борщи закачаешься, не говоря уже про специфические женские умения. Предыдущих мужей она бросала сама, Майкин отец в свое время чуть умом не тронулся, когда она его бросила. Она всегда была такая: если хотела, то брала, если очень просили – давала, не смущалась пребыванием в тамбуре там или в фотолаборатории, или даже торжественным собранием в честь… Это место вообще было очень сексуальным, потому как освещались только нужные лица, в последних же рядах или в кулисах, или даже за плотным сукном стола была хорошая темень. Именно там такое можно вытворить, сохраняя при этом значительность и строгость лица… Лилька была в этих делах мастер высшего (правильней – низшего) пилотажа.
Итак, развод. И мать при нем особенно лишняя. Не надо ей видеть! Не надо! Как бы гуманная позиция.