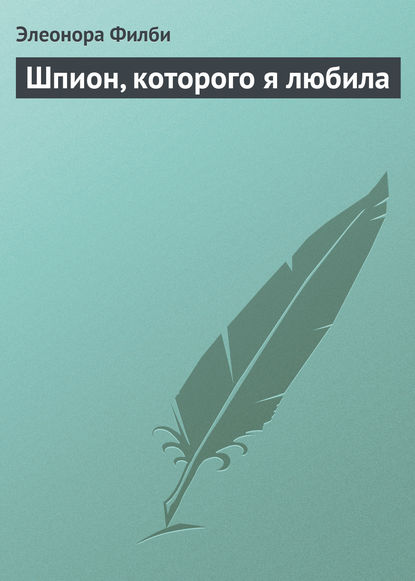По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Шпион, которого я любила
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ким объяснил, что, по престижным соображениям, его русские друзья настояли на том, чтобы у нас был телевизор – в те времена за телевизорами были огромные очереди.
Ким знал, что я обожала птиц, и уже приготовил для меня канарейку и пару зеленых попугайчиков в прелестной самодельной клетке.
Кухня была современной и хорошо оборудованной. Стиральная машина из Чехословакии, пылесос из Румынии, полотер из Югославии; русским был только холодильник. Но стиральную машину, работавшую с дикими завываниями и до смерти пугавшую нашу прислугу, мы превратили в кухонный стол. А вот пылесос, о котором мы не могли даже мечтать в Бейруте, был настоящим подарком для наших многочисленных восточных ковров.
Киму потребовалось много месяцев и несколько тысяч рублей, чтобы обставить наш дом. Сергей возил его по всему городу, показывая десятки квартир, и, в конце концов, он остановился на этом старом доме до-сталинской эпохи, который показался ему намного солидней и надежней, чем неуклюжие, однообразные блочные коробки, выраставшие как грибы по всем окраинам. Зная мое музыкальное прошлое, наши друзья даже предложили большой рояль, но Ким отказался из-за недостатка места.
Обходя квартиру в ту первую ночь вместе с Кимом, который с возбуждением ребенка показывал мне на каждый предмет, я обратила внимание на груды книг, сложенных у стен каждой комнаты. Там было более четырех тысяч томов, оставленных Киму Гаем Берджесом. Ким еще не успел купить книжных полок, и нашей первоочередной задачей было найти их как можно больше. Неожиданно застекленные книжные полки появились во многих магазинах. Мы разместили их во всех комнатах.
В первое утро в Москве я проснулась в своей узкой кровати и сразу почувствовала, что в квартире есть кто-то третий. Я слышала тяжелые, властные шаги и скрип стульев в гостиной. Кто бы это ни был, его определенно не интересовало, спим мы или уже проснулись. «Кто там ходит?» – прошептала я Киму. «Это Зина, наша экономка», – ответил он. Ей предстояло стать моей первой занозой в России.
Зина была грубой, маленькой женщиной лет тридцати, с крашеными волосами. Она стала интимной частью нашей жизни с восьми до четырех. Она присматривала за Кимом уже несколько недель и вела все хозяйство по-своему. Меня она терпеть не могла. С самого начала она заявила, что не желает никаких изменений в ее дневном расписании. Хозяйкой была она. Когда однажды я решила отполировать пол и вычистить все ковры, она отказалась это делать и провела час или два в нашей гостиной, куря одну за другой наши сигареты и ничего не делая.
Я не знала ни одного слова по-русски, и Ким, на этой стадии, тоже знал не так уж много, хотя вполне мог написать все, что хотел, своим мелким изящным почерком. Но, кроме языкового барьера, мы просто с ней не сошлись. Меня с самого начала больше всего раздражало, что Зина с нами обедала. Не то, чтобы я не желала ее видеть из-за какого-то снобизма, но само ее присутствие за столом меня буквально сковывало. Почему эта крашеная голова должна была сидеть между мной и Кимом?
«Она должна обедать с нами каждый день?» – спросила я. В молчаливом упреке Кима я увидела, что бессознательно задела его приветливую терпимость к каждому т о в а р и щ у.
Однажды, решив приготовить себе коктейль «Кровавая Мэри», я послала Зину за двумя бутылками томатного сока. Она вернулась с дюжиной. «Почему?» – мой раздраженный жест не нуждался в переводе. Тогда я еще не знала, что если на рынке появляется такая редкость, как томатный сок, то нужно купить как можно больше, поскольку его может не быть много месяцев.
Первое, что сделали русские после моего приезда, это убедили нас пройти полную медицинскую проверку в спец. поликлинике КГБ. Я даже не могу припомнить, чтобы меня когда-нибудь так тщательно проверяли. Они продержали нас там целый день, делая рентгеновские снимки, кардиограммы и прочие проверки. Несколько дней спустя пришел Сергей и объявил вердикт: я была здорова, а Киму требовался курс уколов для укрепления организма. Для этой цели была назначена медсестра, которая должна была приходить к нам каждое утро. Кроме того, нам предложили отправиться на месяц в один из лучших санаториев. Мы сказали, что хотим подумать. Мы оба истосковались по какому-то подобию нормальной жизни и хотели скорее к ней вернуться.
На первый взгляд Ким выглядел очень жизнерадостным в своей новой русской одежде, но чувствовал себя не очень хорошо и был явно не в форме. За почти невыносимым напряжением последних месяцев в Бейруте последовало еще более тяжкое испытание: его таинственный побег в Россию. Из того немногого, что он мне рассказал, я понимаю, что большую часть пути он проделал пешком – по крайней мере, в начале своего побега. Хотя он исчез из Бейрута в январе 1963 года, в Москву он прибыл только через несколько месяцев. Во всяком случае, так он сказал. Он никогда не рассказывал мне, как провел эти потерянные месяцы.
По прибытии в Москву Кима поселили в маленькой квартире с видом на реку, и о нем заботилась старая, толстая экономка, чьей основной целью, по словам Кима, было впихнуть в него как можно больше еды. Она постоянно ругала его, что он мало ест, и еды, которую она готовила, хватило бы на четырех человек. Он проводил много времени со своими русскими коллегами из разведки, а в свободное время ходил по городу пешком, узнавая и исследуя его, как он привык делать в каждом новом городе. Когда-то я шутила, что он похож на тайного агента из шпионских романов, который всюду ходит и все запоминает.
По непонятным для меня причинам, русские держали нас под очень сильным контролем. В августе того года, за шесть недель до моего прибытия, в московской больнице умер Гай Берджес, который с юношеских лет преданно делил с Кимом его тайную любовь к России. Дональд Маклин был на похоронах и произнес короткую речь. Духовой оркестр исполнил «Интернационал». Ким сказал, что ему не разрешили придти на похороны, но позднее я узнала, что он все-таки успел навестить Берджеса перед самой смертью.
Ким никогда не жаловался на эту жесткую дисциплину, но я подозреваю, что ему больше всего не хватало долгих и задушевных бесед с Берджесом – как в добрые, старые времена. Может быть, такие беседы помогли бы и самому Берджесу прожить еще немного.
Как я узнала, Гай до конца сопротивлялся необходимости вести ту анонимную жизнь, которую от него требовали русские. Он был все время доступен иностранным журналистам; его видели пьянствующим в разных гостиницах; его частная жизнь была достаточно скандальной. Больше всего меня удивило, что он даже не потрудился выучить русский язык и, насколько я знаю, русским от него больше не было никакой пользы. Разве что время от времени он принимал участие в каких-нибудь консультациях в отношении переводов и англоязычной пропаганды. Совершенно очевидно, что ему было до смерти скучно.
Его доконала бюрократическая сторона советской жизни. Он любил музыку, живопись и книги, и расцветал от вина и бесед. Ему очень нравились черноморские курорты, и однажды он повез туда свою мать, когда она приехала с ним увидеться. За год до смерти он обращался к советским и английским властям с просьбой навестить мать в Англии. Возможно, русские были бы счастливы от него избавиться, но англичане отказались его впустить, и после долгих недель прогрессирующего артериосклероза он умер. Его прах покоится сейчас на церковном кладбище Вест Меон (Хемпшир), в той самой деревне, где когда-то жила семья Берджесов.
Свой гардероб и книги Берджес завещал Киму, а остальные вещи мы должны были разделить с Маклинами. Ким уже взял очаровательный туалетный столик, принадлежавший матери Берджеса, и портативный средневековый орган, на котором Гай любил наигрывать старые студенческие песенки. Теперь этот орган стоял в углу нашей московской квартиры, но из него нельзя было извлечь ни одного звука. Он был безнадежно сломан, и никто не смог его починить.
Однажды поздно ночью, вскоре после моего приезда, лежавший с сильной простудой Ким сказал мне: «Тебе надо будет поехать с Зиной на квартиру Берджеса и посмотреть, что нам может там пригодиться». Он упомянул уютное кресло, которое ему очень хотелось иметь, и кровать с резным изголовьем, которая, по словам Берджеса, принадлежала Стендалю. Квартира Маклинов уже была забита мебелью, и выбор остался за нами. Оказалось также, что у Зининого брата есть грузовик, и это было нашей последней возможностью что-то увезти из квартиры, которую займут другие люди. Я не доверяла нашей прислуге, и мне совсем не хотелось ехать с ней ночью куда бы то ни было. Но это надо было сделать.
Берджес жил на Большой Пироговской улице, в старом многоквартирном доме с видом на прелестный Новодевичий монастырь. Уходя из его квартиры той ночью, я нечаянно наткнулась в ванной комнате на большую репродукцию картины Пауля Клее – одну из моих любимых. Много лет у меня в ванной комнате тоже висела репродукция Пауля Клее. Хотя я никогда не знала Берджеса, в ту минуту я почувствовала в нем родственную душу и пожалела, что не успела с ним познакомиться. Я сняла репродукцию со стены и унесла с собой.
В первую неделю в Москве мы с Кимом разговаривали чуть ли не круглосуточно, пытаясь восстановить все, что случилось в течение восьми долгих месяцев разлуки. Он хотел знать все подробности о своих детях и обо всех трудностях, с которыми я столкнулась. Но о себе он рассказал очень мало, кроме своих первых впечатлений от Москвы, описывая в основном, как трудно ему было найти и обставить нашу квартиру.
Оглядываясь сегодня на те первые дни, я понимаю, что практически он совершенно ничего не рассказал о том, что с ним было после побега из Бейрута.
Встретив его в Москве, я с огромным облегчением убедилась, что это мало отличалось от встречи в Бейруте после одного из наших долгих расставаний. Он был все тем же любящим, совершенно очаровательным, сентиментальным мужчиной, которого я обожала. Не было никакого сомнения, что это чувство было взаимным. Тем не менее, нас разделяла теперь крошечная полоска нейтральной земли, которой не было раньше.
Первым серьезным делом, которым мы занялись, было составление детального отчета о моих встречах и беседах с английской и американской разведслужбами в те месяцы, когда я была одна. Я полагаю, эта информация была очень важна для русских друзей Кима. Мне приходилось вспоминать и повторять каждую подробность по нескольку раз. Я рассказала Киму о переживаниях и тревогах последних месяцев в Бейруте, моей зависимости от англичан и американцев в организации выезда из Ливана и превыше всего – моем беспокойстве о нем.
Эти беседы постепенно превратились в настоящие допросы, когда Ким заставлял меня повторять одно и то же снова и снова. Так продолжалось несколько дней, и все это мне ужасно наскучило. Ким был терпелив, но неожиданно упрям и настойчив. Именно тогда я призналась, что мне пришлось полностью довериться англичанам, и как я опознала по фотографиям таинственного русского друга, который принес привет от Кима ранним майским утром. По всей вероятности, это было моей самой большой ошибкой. Но я никогда и ничего не скрывала от Кима, и не хотела делать это сейчас. В конце концов, моя ошибка была вполне человеческой, но я почувствовала, что Ким рассердился. Из-за меня, его жены, русские потеряли ценного агента. «Какая жалость! – сказал он. – Это был один из моих близких друзей и наш лучший человек в этом районе. Его карьера окончена». Мы становились чужими людьми.
Я рассказала ему также, что на нашей встрече в Лондоне шеф английской контрразведки сообщил мне, что он определенно знал в течение последних семи лет, что Ким работал на русских без денег. Эта новость страшно заинтересовала Кима. Он заставил меня повторить слова шефа несколько раз, обдумывая их долго и серьезно. Каким-то образом это открытие глубоко задело его, поскольку оно пролило совершенно новый свет на его отношения с англичанами.
Если англичане так давно знали о его русских связях, то не он обманул их, а они его. Он думал, что шпионил за ними, а на самом деле они следили за ним, стараясь использовать его против русских помимо его собственной воли. Если это было правдой, большинство информации, переданной им русским, было бесполезной. В конце концов, он сказал тихо, но с явной гордостью: «Я работал для русских не семь лет, а тридцать».
Несколько дней спустя, после всех этих долгих разговоров, я задала ему лобовой вопрос: «Что для тебя важнее – я и дети или коммунистическая партия?» Он ответил мгновенно, без малейших сомнений: «Конечно, партия». Я почувствовала себя очень глупо и пожалела, что вообще задала этот вопрос. Я никогда раньше не встречала по-настоящему преданного коммуниста. Ким очень редко упоминал о своих политических убеждениях, и я всегда думала, что у нас с ним одни и те же взгляды.
День ото дня наши беседы все больше напоминали бейрутскую эпоху, когда мы изо всех сил старались избежать рутины ежедневной жизни. Об идеологии он больше не говорил. Гораздо позднее я сказала ему: «Тебе нужно было жениться на коммунистке, убежденной коммунистке, и ни на ком другом». «Ты совершенно права», – ответил он.
Эти разговоры изменили мое отношение к Киму. Я всегда радовалась тому, что у нас не было секретов друг от друга, но не могла больше питать таких иллюзий. Я должна была приспособиться к новой ситуации, потому что почувствовала, что по-другому больше никогда не будет. Я быстро поняла, что никогда не узнаю полной правды о тайной жизни Кима. Сам характер его работы, обстоятельства побега из Бейрута, большая часть из тридцати последних лет его жизни – все это навсегда останется для меня тайной.
Я никогда не была членом компартии и не имела никакого желания вступить в нее. Не думаю, что русские приняли бы меня, даже если бы я об этом просила. Медленно, но верно я пришла к выводу, что этот человек, которого я все еще любила так сильно, которому так безгранично доверяла, от которого ничего не скрывала, был на самом деле мастером обмана.
Мне трудно выразить словами, каким болезненным и ошарашивающим оказалось для меня это открытие. Но в те первые дни в Москве я не хотела сдаваться; мне все казалось, что эту рану можно зализать, а через растущую между нами стену перебраться по лестнице.
2.ВСТРЕЧА С МАКЛИНАМИ
Я пробыла в Москве не больше недели, когда Ким сказал: «Маклины очень хотят познакомиться с тобой и приглашают нас на обед». Я ожидала этой встречи с огромным любопытством, потому что уже начала чувствовать, какую ограниченную жизнь нам предстояло вести: за все эти дни я не говорила ни с одной живой душой, кроме Кима, Сергея, и – с помощью нескольких «нет» и языка глухонемых – Зины, нашей экономки. И вот, наконец, мне предстояло познакомиться с супружеской четой, чья история очень напоминала нашу собственную.
Маклины – еще одна англо-американская пара – бежали в Россию при весьма драматических обстоятельствах, но они уже успели прожить в Москве десять лет. Естественно, мне очень важно было узнать, как они привыкали к сложностям русского окружения. Они, конечно, знали все секреты, и я была готова научиться у них всему, что могло мне помочь.
Кима держали под таким строгим контролем, что он сам встретился с Маклинами всего за две недели до моего приезда. Он знавал Дональда еще в юности, но мало встречался с ним, когда Маклин делал карьеру в Форин Оффис. Между ними не было той дружбы, которая связывала Кима с Берджесом – их объединяла только общая работа на русских. До прибытия в Москву Ким никогда не встречался с Мелиндой Маклин.
В тот вечер Маклины приняли меня очень тепло. Не считая редких визитов родственников, я была первым человеком из западного мира, с которым они могли разговаривать совершенно свободно. Меня засыпали вопросами: они хотели знать, что делается в Лондоне и в Нью-Йорке, кого из наших общих друзей я видела, чем они занимаются и о чем думают, и говорят там, на Западе.
Несомненно, они страшно хотели бы посмотреть на все своими глазами. В отличие от меня Мелинда давным-давно утратила американское гражданство и не могла уехать никуда западнее Праги без риска для жизни. Уже во время первой встречи я почувствовала ту зависть, с которой относились ко мне эти изгнанники: я могла приехать и уехать, когда пожелаю; мой паспорт оставался действительным. А главное, я сама все еще была американкой.
После обеда мы уселись играть в бридж, и это стало образцом наших будущих встреч. Два-три раза в неделю мы обедали, играли в бридж и сплетничали. Кто-нибудь неожиданно сообщал, что нашел на рынке два грейпфрута, и эта потрясающая новость была способна занять нас в течение пяти минут.
Если дореволюционное здание, в котором мы жили, выглядело простым и мрачным, то квартира Маклинов находилась на верхнем этаже массивного дома с тяжеловесным орнаментом сталинской эпохи. Из их гостиной открывался прекрасный вид на Москву-реку, а сама гостиная, с хорошей мебелью и всякими западными вещицами, сохраняла безошибочный аромат Лондона. Разве что ситцевые обои выглядели потертыми, да и западную меблировку было трудно заменить.
Помимо гостиной, которая была больше и роскошней нашей, вся семья жила в двух комнатах: в одной – двенадцатилетняя дочь, в другой – двое сыновей, 18-ти и 20-ти лет. Дональд и Мелинда спали на диванах в гостиной.
Их дочь родилась после побега отца и попала в Россию совсем младенцем; она говорила по-русски, как уроженка страны, и поразила нас с Кимом своей избалованностью и грубым обращением с матерью. Старший сын учился в Московском университете, а его брат – в техническом институте. Внешне никто из детей не походил на русских, может быть, потому, что они одевались из посылок, которые мать и сестра Мелинды постоянно присылали из Америки и из Англии.
В общем, эта семья не была самой счастливой в мире, и я часто удивлялась, почему Мелинда, которая явно не один раз была близка к разводу с Дональдом, все-таки решила приехать к нему в Москву. Возможно, она разделяла его убеждения и была соучастницей в его шпионских делах, но она определенно тосковала по роскоши западного капитализма, от которого была не полностью отрезана благодаря материнским посылкам.
Дональд был крупным мужчиной высокого роста, лет сорока пяти, безусловно интеллигентным, но очень самодовольным. С первого же раза я почувствовала, что мы никогда не станем близкими друзьями. Жена его была маленькой, пухлой брюнеткой, в меру привлекательной, страшно нервозной и напряженной, с раздражающей привычкой повторяться.
Было очевидным, что любви между ними не осталось. Мелинда была по-своему забавной, но, когда мы уходили от них поздно вечером, нам было ее жалко. Однако Маклины знали многих людей, они оба работали, и их светская жизнь казалась мне относительно яркой. Я спрашивала себя, когда нам тоже будет дозволено свободно заводить себе друзей.
В каком-то смысле Маклины давным-давно отбыли свой срок ссылки. Я узнала, что до того, как им разрешили приехать в Москву, их два года продержали в Куйбышеве. Берджес и Маклин прибыли в Советский Союз в 1951 году, когда Сталин подготавливал свою последнюю чистку. Им повезло, что они выжили, возможно, потому, что находились далеко от Москвы.
Как и Берджес, Дональд тоже прошел жестокий курс «вытрезвления» в советском доме отдыха, где его посадили на монашескую диету и мерили температуру два раза в день. Маклины давно перестали быть сенсацией для западных газетчиков, которые их не раз видели, поэтому они передвигались намного более свободно, чем мы.
Хотя Дональд никогда не был особенно красноречив, за бутылкой у него развязывался язык и он начинал вспоминать с Кимом «доброе, старое время». Они рассказывали древние анекдоты из своего прошлого и смеялись над тем, как ловко они всех обдурили. «Если бы они не застукали Кима, – сказал мне однажды Дональд, – вы были бы сейчас леди Филби». По всей вероятности, он понял по выражению моего лица, какой безвкусной оказалась его шутка.
В другие вечера, в моменты ностальгии, Дональд и Мелинда говорили о том, как они будут прожигать жизнь в Италии и Франции, «когда наступит мировая Революция».
У Мелинды была старенькая автомашина, купленная лет шесть-семь назад, на которой она обычно ездила по городу. Мы оба с радостью приняли ее приглашение посмотреть Москву, уделив особенное внимание лучшим магазинам и рынкам.