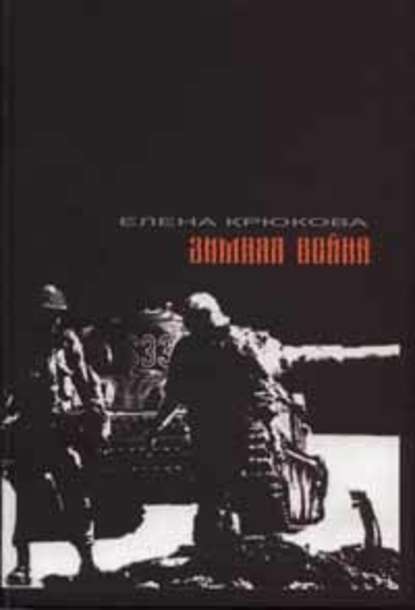По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Зимняя Война
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Собаки сновали по Острову туда, сюда. Собаки ощеривали зубы на людей, наскакивали сзади, хватали за икры, за пятки, упирались в людские спины лапами, валили людей на снег. Хватали за горло. Людское горло беззащитно и мягко; из него, если прокусить его, хлещет прямо в пасть теплая красная кровь. Человек – это тоже охота. Добыча. Человек – хозяин, и человек – дичь. Хозяин и дичь различаются. В чем отличье – трудно объяснить. Но оно есть, и оно очень простое.
Девушка с перевязанной рукой выходила из барака, бывшего ранее святой церковью, глядела на резко блестевший под солнечными лучами снег. Собака, наученная загрызать человека, не мигая, глядела ей в глаза. Девушка садилась на корточки, протягивала собаке руку. На девичьей ладони лежал кусок мятого, волглого, с опилками, ржаного хлеба.
– Ешь! – Голос девушки проникал собаке в душу. – Ешь ты, ешь!.. Ты такая злая, потому что и тебя вдоволь не покормят… голодом изморят, на людей бросаешься… У нас во дворце тоже были собаки… И у Таты была собачка любимая… Джемми ее звали… Таточка ее даже на животе, под фартучком, таскала… Ой, не надо… не надо мне вспоминать, собака… голова кружится… иди, возьми!.. я уже поела… на…
Собака осторожно подходила, веря и не веря. Утыкала нос в девичью ладошку. Рыча, хватала хлеб зубами. Отвернувшись, уходила. Завернутый на мохнатую спину крючковатый хвост дрожал на морозе от удивленья: человек-дичь, который боялся ее и бежал от нее, не боится ее, кормит ее. Зачем человек вытирает глаза и щеки ладонью, пахнущей черным хлебом?
Гулкие, подземные удары барабана. Там. Та-та-та-там. Та-та-та-там. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-там.
В каком из снов своих проснешься ты. Вид у тебя будет Адский, и наведешь ты ужас. Не будет у тебя ни бороды, ни усов, только несколько жалких волос на губах и подбородке. И глаза твои глянут, узкие, быстро и жадно вокруг. И голос, тонкий и острый, пронзит гаревой, дымный воздух, налетающий из степи. Ты будешь сложен прочно, как крепкий Дацан; ты будешь долговечен. Ты выстоишь в страшном бою.
Войско шло, текло тремя огромными черными лентами по слепяще-белой заснеженной степи. Копья вздымались. Над конскими головами торчали вызывающе островерхие монгольские шапки. Войско слыло непобедимым; внушало ужас зверям, птицам и людям. Там, где проходили Чингисхановы тумены, оставались лишь развалины, коптящие, вздымающие дым, как баба – седые патлы, и обугленные трупы. Монголы умели воевать зимой, они не боялись мороза. Степной ветер выдул у них из сердец всю боль и жалость.
Текла черная река, разделяясь на три смертоносных русла. За спиной розовели на рассветном Солнце яркие, острые, как воздетые ножи или навершия копий, голые горы. Впереди расстилалась великая степь. Женщины были одеты так же, как мужчины. Они принимали участие в битве. Нынче будет большой бой. Вон, вон оно, раскинулось, степное синее, под крепким, как панцирь, льдом, широкое озеро. Синий сапфир, упавший с небес. Во имя владыки нашего, Чингисхана, Темучина. Все в мире ему принадлежит.
Кони шли медленно, понурив гривастые головы. Приземистые кобылы тянули повозки, и грохотали пустынно и тоскливо колеса, везя скарб, старух и детей, рожденных в пути, все на Север, на Север. Верблюды тащили разобранные юрты. Конница катилась огромным языком черной горячей лавы, в руках у воинов дымились факелы, за плечами торчали из колчанов отравленные степные стрелы. Поверх вьюков, наваленных на коней, были приторочены медные котлы. Воинам перед сраженьем надо было хорошенечко набить едой брюхо. Бешбармак, лепешки с мясом, пилав с жареным луком. Бабы должны потрудиться усердно. Многие не вернутся из боя. Будут на небесах, у самого Тенгри, кушать манты и каймак из жирных сливок.
Его теперь звали Кюль-Тегин. Конь под ним играл, то и дело вставал на дыбы. Лошади чуяли близкую кровь. Тумен, разделенный на три рукава, подтекал все ближе к Белому Полю сраженья. Воины сидели на конях, как влитые, напоминая каменных степных идолищ. Ни одного женского взрыда или плача – из телег, из укрытых холстиной повозок. Близко сраженье. Люди во все века сражались. Находили смерть в полях. Под пристальным, жестоким глазом белого степного Солнца. Если он, Кюль-Тегин, победит, кровь победы смоет весь ужас презренной, подчиненной и подобострастной жизни. Величайшее зло на земле – подчиненье одного человека другому. Униженье. Гордость не терпит униженья. Обидчик должен быть убит. Брат обиделся на брата и убил его. Воин не перенес униженья от другого воина и застрелил его из лука на поединке. А если один народ обидит другой народ?.. Бастылы полыни торчали из-под снега, мотались на ветру, крученные поземкой.
– Хэ-то-э!.. Хурра!.. Хурра!.. Вперед!.. За славу Чингис-хана, Правителя Полумира!.. Возьми нашу жалкую кровь, Великий!..
Оттуда, из Степи, надвигались густые черные ряды врага. Конница у них могуча, помощней нашей будет. Да ведь мы их разобьем. Кони у них повыше ростом, не наши низкорослые степные кобылки. Костяк движется плечо к плечу, разведчики вольно рассыпались по степи. Снег, снег заметает их. Пока еще живых. О, что такое смерть, Кюль-Тегин. Не бойся. Сейчас ты узнаешь ее в лицо.
– Хэй-о-эй!
Свиристели рожки, бухали громко боевые барабаны, там и сям стали раздаваться воинственные кличи. Воины подбодряли себя, разогревали застоявшуюся кровь, всаживали коням в бока колючие шпоры, хлестали по крупам длиннохвостыми плетками. Два войсковых шамана в высоких собольих шапках ехали на вороных лошадках рядом с ним, косились на него. Кюль-Тегин, герой!.. Один шаман, с обвислыми седыми усами, вытащил из-под полы кожаного боевого одеянья бубен, ударил в него, заорал: Чубугань, Чубугань!.. три барса на небе, три полководца на земле!.. Чингис-хан, Джэбэ и великий Кюль-Тегин!.. Нам с ними счастье!.. Пусть голову отрежут китайским серпом, пусть русы проткнут ребра копьями и вилами, – три барса на загривках несут наше серебряное небесное счастье, и глаза зверей сверкают сапфирами, и в их честь потомки выстроят огромный нефритовый Дацан в поднебесных горах Шань-Лу!..
Три черных реки на яркой белизне приближались к одной широкой черной реке, и сверху, с гольцов, было видать, как черные рукава вливаются в широкое черное русло. Гул. Растет подземный гул; падает отвесно с небес гул небесный. Крики поднялись к небу, тонули в морозной синеве. Люди схлестнулись с людьми, и повозки опрокидывались набок, и медные шлемы валились с голов у нерасторопных воинов, сбиваемые вражьими мечами. Русы, вы сражаетесь достойно. Мы не будем вас брать в плен. Ни одного. Мы убьем вас всех, до единого. Мы спляшем пляску победы, разложим пир счастья на ваших костях, мы раздавим вас досками, а сами сядем на доски, сверху, все войско мое я усажу, весь тумен, и мы станем наливать в чаши вино и вашу белую веселую воду, и опрокидывать в глотки, и вопить радостно: о, сколько мы врагов положили в Белом Поле, не счесть. И еще положим.
Голубой стяг мелькнул в морозном воздухе, затрещал, забился на ветру. Княжий?! Золотом расшит… Кюль-Тегин рванул повод коня. Воины бились длинными, как бабья, по щеке, слеза, изогнутыми клинками. Лучше степных мечей во всем свете нет. Один удар – и ты перерублен надвое.
И вот тут-то женский крик поднялся из повозок! Женщины вопили, как бешеные, как с цепи сорвались – и монголки, вышедшие из самого Керуленского Улуса, отправившиеся в поход вслед за своими храбрыми мужьями, и захваченные по пути на Запад в плен чужеземки, и девки с волосьями, упадавшими на плечи сырой нечесаной пенькой, и старые старухи, годные лишь на то, чтобы стряпать и мыть грязную посуду после трапез, – и следом за ними заблажили и дети, мальцы и огольцы, высунувшись из крытых холстиной и свежеободранными коровьими и конскими шкурами кибиток, так завопили, так завыли – не хуже волков степных! Женщины и дети поняли, что началась битва, что бой начался. Бой – гибель; бой – кровь. Дети видели кровь впервые. Женщины умели останавливать кровь, перевязывать раны. Но женщины, в отличие от детей, знали: если вся кровь вытечет из продырявленного стрелой или копьем мужа, ему не помогут ни Алтас, ни Хубсугул, ни сам грозный великий Тенгри.
– А-а-а-о-о-о!.. – вопили женщины. – Пощадите!.. Помилуйте!..
А звать на помощь, взывать к неведомому помилованью было уже слишком поздно, бой начался, мечи, схлестнувшись, высекли друг из друга голубые искры, и пролилась первая кровь – короткий, будто обрубленный, как хвост охотничьей собаки, уйгурский меч вознесся над беззащитным лицом юноши-руса, рубанул, и вместо одной костяной чаши черепа стало две, и вместо живого лица – кровавый каймак, и то, что осталось на шее, содрогаясь в уже посмертных судорогах, меньше всего напоминало человека: это был уже житель Преисподней, безголовое чудовище Дучжи, у коего зубы находились на животе, а четыре ноги когтили тьму, и из тьмы, из-под когтей, сочилась черная кровь. Жертва! Тебе, Тенгри-хан! Тебе, непобедимый Темучин!
Мелькали блестящие стальные шлемы с густыми золотыми насечками. Богато снарядились на Войну, враги. Думаете, если золотыми да серебряными копями владеете, а мы такие нищие, по степям мотаемся, как по ветру – хвосты кобылиц, вы, богачи, нас победите?! Звери ваши в лесах! Утки ваши жирные на озерах и прудах! Алмазы и рубины, сапфиры и перлы в княжьих сокровищницах ваших, в церковных ризницах, под крышами теремов! Девки ваши, с темным румянцем во всю щеку, с речными жемчугами в розовых мочках маленьких ушек! Все будет наше. Мы – ветер. Мы – вихрь. Мы – копыта и зубы, клыки и когти. Мы – мощь, мы – сила, мы – мужское грубое повеленье: на колени! Я возьму тебя. Я подчиню тебя. Ибо я – зубастый, страшный Лик Войны. Я только и умею, что воевать. И, воюя, я завоевываю все, что возжелаю.
Длинные аратские мечи и кривые бурятские клинки вздымались, высверкивали молниями в пронзительном, беспощадном свете зимнего степного Солнца. Фырканье взбешенных коней. Глухой топот копыт. Наезжай сзади!.. Руби!.. Тяжело раненные русы едва держались в седлах, вцепляясь побелевшими пальцами в конские гривы. С воплями отчаянья, ужаса, негодованья враги нахлестывали коней, пытаясь повернуть, а людской воды в черной реке войска прибывало, и наседавшие сзади не давали развернуться и ускакать раненым, и в гуденьи и мешанине боя свои рубили своих, родные проклинали родных, и в синем прозрачном колком воздухе висели проклятья – до седьмого колена, до двенадцатого, – и стрелы свистели над головами, и среди стальных шлемов вдруг глаз Кюль-Тегина ухватил – яркий, круглый, золотой. Владыка Тенгри!.. Кто выковал?!.. из какого слитка… Он натянул уздцы, подталкивая коня поближе в гущу боя, к Золотому Шлему, он хотел подскакать ближе, увидать лицо: князя… полководца?.. «Обернись! – просил он, сжав зубы. – Обернись, и я увижу твое лицо, прежде чем воздеть меч над твоей головой, и она откатится прочь, под копыта коней, в перемолотый степной снег, давясь своею кровью! Ну!..» Всадник услышал безмолвный вопль врага. Обернулся. Кюль-Тегин едва не крикнул. Светлые, огромные глаза-озера, серо-зеленые, без дна, наплыли на него, устрашили, простили его, сняли у него с печени тяжелый камень прежних неотмоленных грехов.
– Князь!.. Князь русов!.. – выкрикнул он хрипло. Выхватил меч из ножен. – Иди сюда!.. Здесь смерть твоя!..
Воин в золотом шлеме направил коня ближе к вопящему монголу. Волчий род! А смерть будет собачья. Ты, хан, станешь моей собакой. И я буду кормить тебя старой обглоданной костью. Много чести тебе – умереть в бою. Ты хочешь оказать мне честь?! Кони давили копытами отрубленные кисти рук, ноги, наступали на грудь лежащим на снегу, пробивая насквозь хрупкие ребра под чешуйчатой медной россыпью кольчуг. Воин в золотом шлеме яростно закричал. Кюль-Тегин слышал хрипы его раздутых упоеньем боя легких. Видел бисеринки пота на лбу, на окровавленных щеках. Он не ранен еще. Это чужая кровь. Это кровь его родных по крови, его соплеменников. Он полон гневом и местью. Он не пощадит его. Копья русов опрокидывали монгольские повозки. Огонь и сера летели во вздыбленные кверху колеса, в порванные шкуры раскиданных юрт, в походный постельный скарб, мечи звенели о котлы, из которых воины хлебали гороховый каймэ и молочный вкусный каймак. Женщины катались, валялись по земле, и волосы их облепливались снегом, тонули в снегу, и они окунали в снег голые красные руки, и вопили, кричали бессвязно о том, что вот уж больше никогда не обнимут мужей своих, не отдадутся им, не обласкают малых детишек, – они вопили, прощаясь с миром, и воины морщились в пылу боя угрюмо, воинам не надо было криков и стонов, они были заняты тяжелой работой, а бабий крик так мешал им, – и рослый арат развернулся на коне и всадил в истово вопящую раскосую бабу длинное копье, пронзив ее насквозь, и она замолчала и захрипела, насаженная на древко, и острие вышло у нее со спины, и она дергалась на копье, будто рыба на остроге, – и вмиг замолчали все кричащие женщины, они поняли, что их всех умертвят, если они будут сеять ужас и слезы в рядах сражающихся, а Кюль-Тегин все глядел на Золотую Голову, оскалился, показал все зубы, и слюна стекала у него из углов рта, и ему казалось, в приступе боевой ярости, что у него изо рта выскакивает, вылетает огонь, языки огня.
В кулаках русов крутились булавы. Копья летели сквозь крошево битвы, поражая насмерть, пронзая запросто искусно сплетенные из стальной нити защитные кольчуги, оглушительно звенели, ударяясь о кованые выпуклые доспехи, напяленные монголами и русами под простецкие шкуры, под роскошные, вышитые яхонтами княжеские далматики. Русы рубили монголов, те падали с коней, и воины подбегали к свободным от всадников лошадям, взнуздывали их, захватывали, вскакивали на них, взбирались, ударяли пятками в ребрастые конские бока, гнали перед собой обезумевших от боли, израненных, исколотых копьями степняков, – а из белой снежной степи наперерез неслась новая конница, и врезалась в черный орущий клубок бьющихся, и разделила его надвое, и узкоглазые воины заработали мечами, и длинными и короткими, кривыми, сбивая наземь дерзких русов, сея красную смерть направо и налево, сшибая головы, как крестьянин на Керулене срезает серпом молодые побеги остро пахнущего лилового лука, – и в средоточье битвы поднялся великий вой, завыло по-волчьи, загудело огромное зимнее пространство окровавленной степи под морозным безликим Солнцем, и коршун уже летал над сечей, кружился, высматривая поживу, и люди, раненные насмерть, вздымая на конях руки, падали, валились друг на друга, словно хотели обняться, словно в последнем предсмертном порыве желали крепко обхватить друг друга, любовно и прощающе, и утыкались лицом в лицо друг другу, уже мертвые, уже остывающие на скаку, на лету, – о, так прекрасно умереть на лету, Золотая Голова, ну, иди же поближе, и мы вот так же взмахнем мечами, и вот так же, как эти простые воины, повалимся друг на друга, чтобы обняться нерасторжимо. Иди! Я убью тебя!
Мимо Золотой Головы просвистел топор на длинной рукоятке. Его метнул один из русов. Князь еле успел увернуться. Кюль-Тегин захохотал. Это мое дело! Ты погибнешь не от руки своего смерда – от руки высокородного полководца, ведущего свой род от самого…
Он не успел додумать. Он поглядел с коня вниз. Те русы, у кого монголы выбили из рук оружье, но не смогли убить, сражались голыми руками. Это было страшно. Ни ножа, ни копья, ни лука со стрелами, ни булавы, ни меча – а лишь одни голые руки, выпачканные в крови, протянутые вперед, словно для благословенья или для объятья, одни беспомощные человечьи руки, а поверх рук – яростные белесые от последнего отчаянья глаза, кричащие: вот мои руки, и вот я, и я сражаюсь до конца, и я убью тебя, враг, и я погибну, ведь ты сильнее, ты вооружен, но человек сражается не только оружьем, не мечом и копьем бьется он, а глазами своими, а волей вскинутых рук, а сумасшедшей, неистовой, посмертной волей своей. О русы! Сумасшедшие! Великие сумасшедшие! У вас такая же горячая, безумная темная кровь, как у нас. И вы живете, как и мы, в степях. И вы ставите грады по берегам больших рек. И вы покрываете своих жен в ваших шатрах, как и мы же тешимся ими. Так чего же мы с вами не поделили в этой беспечной, жестокой Зимней Войне, что Чингис-хан ведет вот уже немыслимо сколько времени, от начала времен?!
– Хурра, Золотая Башка!.. Гляди, как я тебя снесу!.. Одним ударом!..
Ты помнил, Кюль-Тегин, как возвращались из боя монголы Тохучара. Как гнали они перед собою богатую добычу – быков, коров, визжащих девиц, закованных в цепи, катили телеги, полные добра – шкур и оружья, мехов и дорогой утвари. Гляди, с Севера, с гор, надвигаются серебряные густые облака. Гляди, как блестит, укрытое голубым льдом, круглое степное замерзшее озеро, синий небесный Глаз. Мы тесним русов к Озеру. Они ступят на лед и провалятся – перед весною на степных озерах лед хрупок, воины пойдут ко дну, ледяная вода обнимет их, рыбы будут выедать им белые, выпученные от страха глаза. Утонуть – бесславно: это не то, что погибнуть в бою. Мы утопим вас. Ты, Золотая Башка! Берегись!
Меч просвистел. Обрушился – всею тяжестью. Золотой шлем зазвенел. Клинок отскочил, как отброшенный незримой тяжкой дланью.
Кюль-Тегин прокричал страшное уйгурское проклятье. Золотая Голова пошатнулся в седле. Глаза его, озерные, пронзительно-светлые, глядели по-прежнему ясно и спокойно, будто он парил над схваткой, будто не трясся на ошалевшем от ужаса, храпящем коне, с вытаращенным сливовым, косящим оком, в сердцевине смертного боя. Он поднял перед Кюль-Тегином левую руку, обтянутую чешуйчатой стальной перчаткой, и произнес слова на своем тарабарском, преисподнем языке.
Он тоже проклинает меня!
Нет. Я тебя не проклинаю. Я тебя заклинаю. Я неуязвим. Если ты даже располосуешь меня, разрежешь на две половины, как царь Соломон повелел разрубить ребенка, за коего боролись две матери, – и тогда я воскресну; я настоящий Царь; я заколдован звездной короной, горящей ночами над снежной степью. Я призываю тебя к любви. Посреди дикого боя – среди криков – смерти – крови – проклятий – зову к любви. Можешь оглохнуть. Не слышать. Не отвечать. Можешь снова натянуть тетиву, выпустить в меня стрелу. И просвистит лишь Тень Стрелы Отца. Она пройдет надо мной, над моей головой, и попадет в звездного Песца, в ночного золотого Тарбагана. Ты теснишь нас к Озеру! Там мои воины найдут покой. Но и твои тоже. Мы два полководца. Мы ошиблись, поставив на смерть. Жизнь не завоюешь ценою смерти. Гляди, Солнце, оно золотое. Оно – мой Шлем. Я дарю его тебе. Я люблю тебя.
А глаза его, пока он говорил это на непонятном Кюль-Тегину языке, горели ненавистью.
Конь монгола попятился. Неужели я буду жить в иных веках?! Я не хочу. Я рожден сегодня и умру сегодня. Врешь. Мир устроен так, что ты кочуешь из времени во время. Из земли в землю. Ты же знаешь это. Ты исповедуешь такую веру. А ты… исповедуешь кого?! Я исповедую свою любовь. Дешево же стоит твоя любовь, поганец княжий! Ради жизни – тьмы людей погубить?!
Он и Золотой Шлем разом, вместе, не сговариваясь, взмахнули мечами и содвинули их – две голубые молнии. Монголы продолжали теснить русов ко льду Озера. Сквернословя, плюясь, отдуваясь, отирая кровь с усов, щек, ртов, шей, зажимая голыми руками зияющие раны, хватая ладонями хлещущую на красно-белый снег кровь, оба схватившихся не на жизнь, а на смерть войска медленно, пядь за пядью, отступали к неистово сверкающей гладкой сини Озера, лежащего ледяным блюдцем на камчатном покрывале чистобелой заснеженной степи. Скатерть снега была лишь кое-где прошита волчьими следами. Волк, бедная степная собака. Ты будешь выть нынче ночью над убитыми, подняв морду к старухе Луне. И собаки монгольского войска, что останутся в живых после битвы, придут на поле боя, усеянное трупами и умирающими, ранеными вояками, и женщинами, лежащими навзничь на снегу, с распатланными, разбросанными по снегу черными, как гривы кобыл, волосами, и жалкими, скорчившимися на морозе трупиками детей, невесть для чего рожденных в долгом зимнем, жестоком пути, – закинут усатые морды в зенит и завоют, вторя волкам; и так будут выть, по обе стороны убитого боя, степные собаки и собаки человечьи, понимая души, ушедшие в небо по неведомой воле, и будет свистеть и петь над головами волков и собак Тень Стрелы Отца, пропадая, исчезая в черной, высокой небесной сини.
– К Озеру!.. Под лед их!.. Под лед!..
Людское перекати-поле, сшибаясь, сминаясь, вопя, поражая, катилось все ближе и ближе к ледяному круглому зеркалу. О, богиня Ай-Каган, небось, глядит в него со страшной высоты по ночам. Это ее серебряное зеркало. А груди у нее налиты серебряным лунным молоком; ведь она Царица Луна, ведь она Старуха Луна, вечно рождающая молочные звезды, и, если к ней, пред ее светлые очи, явится Гэсэр-хан, маленький тщедушный старичок, и попросит у нее водки, она, наклонясь с небес и жестоко хохоча, даст ему старой бабьей шутейной водки – свесит вниз белые, сияющие молочные груди и прокричит: «Пей!.. Пей, если достанешь!..» И Гэсэр-хан станет прыгать до небес и не допрыгнет, и тогда Ай-Каган сольет ему лунного молока на затылок, на лысину, а вслед молочным каплям пустит стрелу с серебряным наконечником – яркую звезду Чагирь. И упадет Гэсэр-хан, сраженный насмерть, и улыбка застынет на его устах. Гэй! Гэй! Хурра! Вперед! Мы почти победили их! Утопим их! Утопим подо льдом!
До ночи мы должны кончить сраженье!
Каша из людей, коней, копий, стрел и мечей докатилась до берега. Первые воины ступили на лед, обнявшись в рукопашной, покатились по льду, и вдоль заберега пошли, зазмеились ломаные синие, темные трещины – лед раскалывался под тяжестью облаченных в доспехи тел, вода выступала на изрытую Солнцем ледовую амальгаму из широкой, расступившейся подводными Царскими Вратами полыньи, заливала сапоги, щиколотки дружинников, вбирала, всасывала в себя, вглубь, внутрь, в тайну, в смерть, и широкие ледяные плахи трещали и кололись, и торосы вздымались к синему небу, играя и сияя радугой ледяных сколов, и бойцы хватались за ледяные мечи, изранивая руки, крича, уходя под воду, ловя последний воздух белыми перекошенными ртами, – так умирали и те и другие, и монголы и русские воины, и, погружаясь под воду, они в отчаяньи обнимались, они хватали друг друга за плечи, прижимались грудь к груди, лицо к лицу, они плакали, искали друг у друга на груди защиты – и тонули оба, крепко сплетясь, крича в степной мороз проклятья, звучавшие, как слова любви.
Золотой Шлем ударял клинком о клинок Кюль-Тегина. Мы с тобой жили когда-то, Кюль-Тегин, на земле?!.. Жили, не сомневайся. Мы дрались вот так же?!.. Дрались. И еще жесточе. Так зачем же бессмысленный круговорот времен, войн, судеб?! Какую цель преследовал Бог, сотворяя нас – Христос ли твой, твой ли Будда, пустынный ли Аллах, во имя коего сумасшедшие дервиши сжигают себя на дорогах, на шляхах, в заброшенных старых банях?!.. Если мы рождены без цели – тогда… зачем?!..
Не рассуждай. Молчи. Бейся. Биться – это все, что осталось нам. До первой крови. До твоей – или моей – смерти, так похожей на любовь: закроешь глаза – и сладость, и покой забытья.
Синие клинки скрещались, звенели дико, вызванивая бесцельный, тяжкий ритм. Танец клинков убыстрялся. Дело надо было кончать. Солнце поднималось все выше над степью, озаряя прозрачные, пустые глаза мертвецов, гладко блестящие, жирноволосые затылки аратов, островерхие шлемы русов, куньи и собольи шапочки монгольских нойонов. Полководцы бились, и бился на льду Озера народ, и народ бился с народом, и честь билась с честью, и жизнь билась с жизнью. Лед трещал и подавался. Полынья разрасталась, в нее ухали уже всадники вместе с конями, и кони, пытаясь выбраться на сушу, скребли синий лед копытами, дико и жалобно ржали, глядя прямо в глаза непокорным людям: зачем вы нас так?!.. куда вы нас?!.. сжальтесь… Конское предсмертное ржанье стояло и висло надо льдом, звери умирали, вздрагивая, раздувая ноздри, плача крупными слезами, кладя ноги на рушащийся, крошащийся лед, и бойцы в отупеньи побоища хлестали их плетьми, будто гоня скорей на дно, и в немыслимой свалке обезумели все – и кони, и люди, и нойоны, и князья, и щитоносцы, и лучники, и иглистый морозный воздух был прошит отборной руганью и долгими, как вся жизнь, криками, и с криком, выходившим из нутра, из средоточья жизни всей, люди уходили под лед Озера, и Солнце сверху глядело на битву, усмехаясь всеми лучами, протыкая несчастных бестелесными белыми льдистыми копьями, освещая все – и грязь, и ужас, и кровь, и геройство, и колотую рану в боку юного монгольского барабанщика, далеко отбросившего свой обтянутый телячьей кожей, обшитый красными шелковыми кистями и золотыми бляхами в виде бычьих голов военный барабан, и барабан оказался на воде, и он не потонул, он же был деревянный и кожаный, он плыл, как лодка, а барабанщик с раной меж ребер лежал, подвернув под себя ногу, как будто танцевал ехор, на синей пластине колышащегося на воде льда, и в кулаке он сжимал палочку, в другом – другую, будто хотел ударить, и плыл его драгоценный барабан, и монголы больше никогда не пойдут завоевывать иные земли под этот четкий, сухой и дробный стук: там, та-та-та-там, та-та-та-там, та-та-та-та-та-та-та-та-та-там, – это сердце стучит, это сердце пустыни, сердце степи, сердце наших родных гор, и кто здесь враг, а кто друг, знать никому не дано, лишь Тенгри: там, в облаках. Бей, Золотая Голова! Что-то долго мы с тобой бьемся! Равные мы соперники, значит!
Русич воздел меч и с силой, снизу вверх, ударил. Лезвие вошло точно под ключицу, туда, где у живого бьется сердце. Кюль-Тегин успел лишь вздохнуть и улыбнуться. И пробормотать несвязно, благодарно:
– Отличный удар… редкий удар… я вижу небо… синий сапфир… я вернусь… я возвращусь, там, далеко… в вышине…
Князь в золотом блестящем под Солнцем шлеме смотрел пристально, молча, как медленно валится с коня противник, как хватается за конскую холку, цепляется грязными земляными ногтями за сбрую, расшитую крупной саянской бирюзой и лазуритами, как вылезают из орбит его узкие, будто рыбы уклейки, бешеные глаза, а потом желтая складка век закрывает их, и они гаснут, и жизнь утекает из него – так стекает расплавленный воск вниз по церковной свече.
Он перевел дух. Огляделся. Его воины тонули, уходили под лед. Озеро раскрывало им объятья. Монгольские повозки горели на морозе, черная гарь и золотые конские хвосты огня летели по ветру. Свист стрел над головой звучал все реже. Люди убили друг друга. Люди могли торжествовать. Не победил никто.
Те, кто остался в живых, могли уползать с Белого Поля, истекая кровью, прочерчивая на снегу животом, локтями, бессильно обвисшими ногами змеиный, нечеловечий след; могли молиться обветренными, помороженными ртами, кусая снег – пить хотели, хватали кровавый снег губами, зубами, – всем Богам, коим молились их деды и прадеды; могли тихо сжаться в комочек, застыть, не шевелиться, со всем проститься. У всякого, оставшегося в живых после битвы, был выбор.
Лед трещал, расходился. Льдины отползали друг от друга. Со дна на поверхность черно-синей воды подымались пузыри. На берегу валялись сотни искалеченных тел. В воздухе пахло кровью, сладкой горелой человечиной и кониной, разлитым из кухонных походных котлов каймэ.
Князь в золотом шлеме, сидя на коне, глядел на мертвого полководца.
– Ты воскреснешь по вере твоей, – тихо сказал он разбитыми в бою губами и слизнул запекшуюся кровь. – И я, твой враг, воскресну вместе с тобой. Но мой Бог милостив. Он сделает меня в жизни будущей твоим другом. Друг. Враг. Ежели бы мы, люди, еще знали, доколе будем убивать друг друга. Свою землю от набега я защитил ли?! Ты, сражавшийся со мной, своих детей от бесславной смерти в бою уберег ли?! Что делаем мы, люди… Что мы делаем… что творим… Господи, Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного…