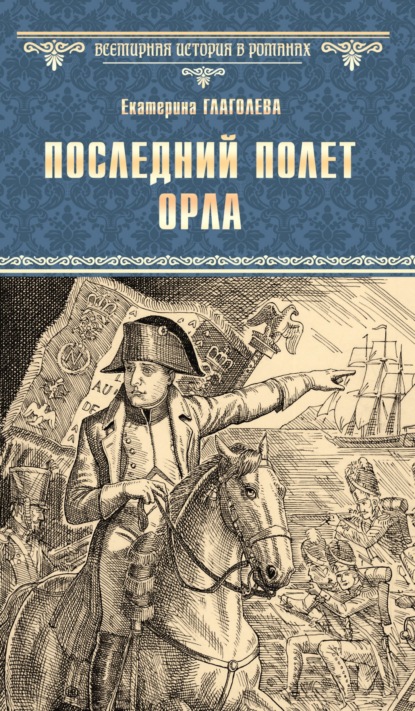По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Последний полет орла
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Еще он сказал, что среди Ротшильдов нет неблагодарных.
– Это само собой, – махнул рукой Джеймс. По его лицу было видно, что он уже думает над тем, как осуществить план Натана. – Ступайте домой, отдохните. Завтра утром можете прийти на службу к девяти часам.
Глава вторая. «Не клянись вовсе»
Едва смолкли барабаны последней пехотной колонны, маршировавшей через площадь, как воздух наполнился визгливым гамом. Подобно приливной волне, пестрая толпа просачивалась с площади Карусели и через арки Лувра во двор Тюильри, покинутый войсками. В несколько мгновений он оказался заполнен колыхавшейся массой; герцога Беррийского вместе с конем оттеснили под самые окна дворца, офицеры из его свиты тщетно пытались сдержать галдящую орду: задние толкали передних, потому что на них самих напирали. Гомон вдруг превратился в оглушительный крик, вырвавшийся из сотен глоток: на балконе появился Людовик XVIII. «Да здравствует король!» – истерично вопили женщины и тянулись к балкону руками, будто надеялись ухватиться за него; «Да здравствует король!» – подхватывали мужчины, размахивая шляпами. Людовик, улыбаясь, сделал жест обеими ладонями, словно уминая шум, который в самом деле немного утих, и всё же слов, произнесенных королем, никто не расслышал. Закончив свою речь, он поднял руку в приветствии и величаво удалился; толпа вновь завопила. Герцога Беррийского хватали за руки, целовали его сапоги и попону его коня; он раскланивался на все стороны, пытаясь тем временем дрейфовать к крыльцу.
Бенжамен Констан пробирался к улице Риволи, орудуя локтями и тростью. В давке ему не раз отдавили ноги, пару пуговиц на сюртуке выдрали с мясом. «Да здравствует король!» – гаркнул рядом молодой человек лет тридцати и вскинул вверх свою шляпу, заехав при этом локтем Констану по скуле и чуть не сбив с него цилиндр. Чёрт знает что! Он даже не подумал извиниться! Устремленные вверх глаза пылали восторгом. Очень удобно оправдывать хамство чувствами высшего порядка!
«Почему народная любовь всегда проявляет себя через подобострастие и раболепие? – мрачно думал Констан, сердито шагая через Вандомскую площадь. – И существует ли она вообще? Если любовь есть соединение сердец, чувствующих одинаково, угадывающих тайные мысли друг друга, бьющихся в унисон, то любовь между правителем и народом попросту невозможна. Ни один правитель не скажет народу правды о своих действительных намерениях и целях, ни один народ не повинуется правителю во всём, не испытав прежде средств уклониться от исполнения его воли ради собственной мелкой выгоды».
Небо хмурилось, словно подстроившись под его настроение; лоточницы на бульваре Капуцинок с тревогой поглядывали на тучи, опасаясь за свой нежный товар; за лошадью, привязанной за коляской, гналась со злобным лаем собака, а та пыталась лягнуть ее. Констан толкнул калитку в стене и, пригнувшись, вошел в маленький, голый сад, еще влажный после недавнего дождя. В одном уголке клумбы стыдливо изогнулись подснежники, в другом проклюнулись крокусы, вытянув вверх фиолетовые наконечники зеленых копий, пухлый мраморный амур разглядывал бабочку-Психею, севшую ему на ладошку. Эта скульптура всегда раздражала Бенжамена своим слащавым ханжеством. Он поднялся на крыльцо, вошел в прихожую через незапертую застекленную дверь, отдал горничной трость и шляпу, узнал, что хозяева дома, и стал подниматься по лестнице, отражаясь в бесчисленных зеркалах.
Жюльетта тщеславна: на этой лестнице невозможно укрыться от своего образа, а ей, конечно же, доставляет удовольствие созерцать свою красоту. Но что делать Констану? Куда деться от преследующего со всех сторон напоминания: тебе скоро сорок восемь, ты обрюзг, постарел, волос убавилось, а морщин стало больше, глаза уже не блещут звездами, а выглядывают серыми мышками из покрасневших век… Из-за двери доносился ровный голос Жюльетты, читавшей что-то вслух; Бенжамен остановился и прислушался.
– Двенадцать лет мы были угнетены одним человеком. Он принес опустошение во все страны Европы и восстановил против нас чужеземные нации. Наши защитники были вынуждены отступить перед их числом; над стенами Парижа впервые за несколько веков развевались неприятельские знамена. Содетель стольких бед сложил с себя власть; навлекший худшие несчастья на наше отечество покинул пределы Франции. Нам всем казалось, что навсегда…
Это же его статья в «Журналь де Пари»! Как странно слышать свои собственные слова из чужих уст…
– Автор самой тиранической из конституций, когда-либо принятой во Франции, говорит сегодня о свободе, но именно он на протяжении четырнадцати лет подрывал и уничтожал свободу. Ему не найти себе оправдания в воспоминаниях, в привычке к власти, – он не порфирородный. Он поработил своих сограждан, заковал в цепи равных себе. Он не унаследовал могущество, он желал и помышлял о тирании – какую свободу он может посулить? Разве сегодня мы не свободнее в тысячу раз, чем при его власти?
Нет, нет, нет! Читать надо не так! Где страсть, где чувство? Без них слова становятся убогими в своей банальности, смешными и нелепыми, как человек, которого выставили бы голым на эту лестницу на потеху зеркалам. Констан разрывался между противоречивыми желаниями: войти и дочитать статью самому, остаться здесь, сбежать вовсе… Куда бы он ни повернулся, он всюду видел свое растерянное лицо. Между тем унылое чтение продолжалось, словно в насмешку: он не способен воспламенять своим пером чужие сердца! В нём нет Божественной искры!..
А в ком она есть? Может быть, в Шатобриане? Его «пророческий» памфлет «О Буонапарте и Бурбонах» слегка запоздал, события его опередили. Шатобриан льстит самому себе, заявляя, что тысячи экземпляров его брошюры (изданной за собственный счет) стали тысячами королевских солдат: Наполеон уже отрекся, когда эта книжка поступила в продажу. Так, может, печатное слово вообще мертво? В самом деле, разве можно припомнить случай, когда огромные массы людей отправлялись бы на смерть, прочитав какой-нибудь памфлет? Меж тем умелый оратор способен увлечь их, сплотить, внушить что угодно…
– Все французы возьмутся за оружие, чтобы защитить своего короля, свою конституцию и свое отечество, – старательно выговаривала Жюльетта. – Ибо они знают, что, чем дороже им свобода, тем сильнее следует отражать Буонапарте, своего вечного врага, и они уверены, что правительство, предоставившее в минуту кризиса двойное доказательство мудрости и силы, соблюдя все свободы, будет заботиться о них еще больше после победы, почитая за честь управлять свободным народом, полагая права этого народа самой драгоценной гарантией для самого себя, а одобрение нации – основой и спасением власти…
Констан нажал на ручку двери и вошел в библиотеку.
Жюльетта, полулежавшая на кушетке с газетой в руках, вскинула на него свои агатовые глаза, улыбнулась («А, вот и он сам!») и протянула руку для поцелуя. Три «благородных отца» сидели в своих креслах; Бенжамен поздоровался с каждым, прося не вставать, и сам сел на стул у изящного письменного стола.
«Благородными отцами» в этом доме называли Жана Бернара, Жака Рекамье и Пьера Симонара: один был отцом Жюльетты, другой – мужем, третий – давним другом первых двух. Правда, Констан слышал от людей, в осведомленности которых не сомневался, что мать Жюльетты зачала ее не от Бернара, а от Рекамье. Во время Революции богатый банкир женился на пятнадцатилетней девочке, думая, что не выживет, и намереваясь оградить свою дочь от бедности, сделав ее своей наследницей, однако человек предполагает, а Бог располагает: преодолев без потерь эпоху переломов, Рекамье разорился во время Империи, когда Наполеон установил континентальную блокаду Англии, Жюльетта же навлекла на него окончательную опалу, привечая в своем роскошном салоне врагов Бонапарта. Конечно, муж-отец был готов предоставить Жюльетте свободу, как только она того пожелает, но «красавица из красавиц» кружила головы, твердо стоя при этом на ногах. Такого черствого сердца еще не рождали небеса – или преисподняя. На что Бенжамен только надеялся! Жюльетта имеет толпы молодых поклонников, а он на десять лет старше…
– Прекрасно написано, молодой человек! – воскликнул господин Симонар. («Отцам» перевалило за шестьдесят.) – Вот именно: корсиканец не имеет никаких прав, не может ничего требовать и уж тем более не в силах ничего предложить. Это не угроза, а школярская выходка, за ним никто не пойдет, правительству нет нужды принимать чрезвычайные меры.
– Но это не значит, что не нужно никаких мер вообще! – тотчас возразил господин Бернар. (Он время от времени бунтовал против деспотии Симонара, игравшего в их дуэте первую скрипку, но лишь чтобы вновь покориться ему, потому что не мог без него обойтись.) – Нам говорят, что достаточно разрушить один-единственный мост, чтобы остановить продвижение Бонапарта, так почему же его никто не разрушит? Нам говорят, что его войска тают на глазах, однако он идет всё дальше и дальше! Пусть за ним не следуют, но ему и не препятствуют! Студенты, изучающие право, записываются в солдаты, молодые дворяне – в «красные роты», но это здесь, в Париже, а что же в провинции?
– Маршалы выехали к войскам…
– И некоторые уже вернулись!
Старики заспорили, Рекамье поддержал Бернара: в газетах пишут, что в Лионе крестьяне прячут зерно, а купцы – сукно, потому что Бонапарт за всё платит расписками, то есть ничем не обеспеченными бумажками, банкиры отказались открыть ему кредит, однако из письма его кузена явственно следует, что в Лионе узурпатору оказались рады. Он устроил смотр своим войскам, восстановил трехцветное знамя, вновь провозгласил себя императором и теперь издает декреты.
– Ко мне приходил этот еврей, Ротшильд, предлагал мне золото в обмен на государственные облигации…
– Вот видите: даже еврей верит в то, что правительству ничто не угрожает!
Рекамье покачал головой: это вряд ли. Если бы Ротшильду было некуда девать свое золото, он вложил бы деньги в недвижимость, а не в бумаги, которые легко увезти с собой…
Констан не участвовал в их разговоре. Будь они все согласны между собой, он непременно стал бы им противоречить, такой уж у него характер, но поскольку они спорили… Вместо этого он показал Жюльетте свой испорченный сюртук, заявив, что стал жертвой народной любви к монарху. Что угодно – лишь бы вызвать ее интерес…
Она пошла проводить его до дверей; теперь они вместе отражались в зеркалах – ах, разбить бы их к чертовой матери!
– Кто знает, что будет через три дня, – шепнул ей Бенжамен, получив обратно свои трость и шляпу. – Все страшно трусят, я же боюсь лишь одного – не быть любимым вами…
Она улыбнулась:
– Я люблю всех своих друзей!
«О да! – с горечью думал Констан, стуча тростью по булыжникам двора. – Ни у одной другой женщины нет стольких друзей – горячо желавших когда-то стать чем-то большим! Это великий дар – преображать неутоленную страсть в дружбу. Но неужели она сама никогда не пылала огнём, который с легкостью возжигает в других? Наверное, нет, потому что гореть, не сгорая, нельзя. О, если бы я мог быть таким же, как она! Но нет, я всё еще лечу на огонь, обреченно махая опаленными крыльями!»
Погруженный в свои мысли, он снова вышел на бульвар и остановился в замешательстве. Куда теперь? Только не домой. Шарлотта делает его жизнь невыносимой, превращая самое обыденное замечание в зацепку для склоки. До обеда дома лучше не появляться: при чужих людях она будет держать себя в руках. Констан свернул в переулок, направляясь в сторону Пале-Рояля.
Надо отдать справедливость Жюльетте: она умеет быть верной в дружбе. Отправилась же она в изгнание из верности госпоже де Сталь, которую Наполеон выслал в Коппе, велев уничтожить весь тираж «О Германии»! И даже утешала ее, хотя сама очутилась в куда более тяжком положении – в полнейшем одиночестве, в Богом забытом Шалоне! Вот что значит отсутствие страстей: оно делает душу неуязвимой для страданий.
Любым человеком движет какая-либо страсть. Талейран поступится честью ради денег и продастся сколько угодно раз, лишь бы за него торговались; Фуше охотно копается в грязном белье, потому что знание чужих тайн дает ему власть над людьми; Наполеону важно, чтобы все считали его гением и кричали ему «виват!» А он, Бенжамен Констан? Гоняется за неуловимым идеалом. В своих статьях он провозглашает этим идеалом свободу, а в жизни ищет высокой, всепоглощающей любви… Ах, ради любви и свободы люди жертвуют собой, а ради богатства, власти и славы – другими. Ну и что из всего этого достижимо?
В саду Пале-Рояля небольшая толпа обступила шарманщика, который крутил ручку своего ящика и пел дребезжащим тенорком песенку из модного водевиля, изменив в ней слова:
К нам возвратился Никола?[3 - Согласно легенде, бытовавшей в роялистских кругах, настоящим именем Наполеона, данным ему при крещении, было Никола?, а уж потом он сам придумал себе более звучное. Символом Империи Наполеон сделал пчел.],
О ком уже мы позабыли.
Жужжит по-прежнему пчела,
Когда и улей раздавили.
Не усидел на островке
своем несчастном даже году.
Ну что сказать о чудаке:
наш бешеный не любит воду.
Констан бросил ему в шапку мелочь.
Глава третья. Бежать нельзя остаться
– Кор-роль!
Депутаты из обеих палат и зрители на трибунах встали и обнажили головы. Медленными шагами необъятный Людовик XVIII приблизился к трону и поднялся по ступеням; Месье[4 - Месье – брат короля, Карл д’Артуа. Два его сына носили титулы герцог Ангулемский и герцог Беррийский. Полное имя Людовика XVIII – Луи Станислас.] и герцог Орлеанский заняли места по правую руку от него, герцог Беррийский и принц Конде – по левую. Вдруг наступила тишина, в которой ясно слышались глухие удары. Шатобриан не сразу понял, что это стучит его собственное сердце. «Эхо поступи Наполеона», – подумалось ему. Надо будет записать в дневник.
– Господа! – заговорил король неожиданно звучным голосом без признаков одышки. – В момент кризиса, когда враг общества проник в часть моего королевства и угрожает свободе всего остального, я явился среди вас, чтобы скрепить узы, которые, соединяя вас со мною, укрепляют государство. Обращаясь к вам, я объявляю всей Франции мои чувства и намерения.
За долгие годы изгнания Луи Станислас сумел сохранить то, что вывез из Франции: величавость и забытый всеми версальский выговор. Слушая его, Шатобриан уносился на тридцать лет в прошлое, в свое отрочество; вместо подпертых галстуком круглых щек, оттягивающих вниз уголки губ, и двойного подбородка перед его мысленным взором вставало суровое лицо отца, отторгающая фальшь парика, холодный взгляд…
– Я вновь увидел свое отечество; я примирился с иноземными державами, которые, не сомневайтесь, останутся верны соглашениям, вернувшим нам мир, – продолжал король. – Я трудился для счастья моего народа и каждый день получал трогательные свидетельства его любви. Смогу ли я в шестьдесят лет лучшим образом завершить свой жизненный путь, чем умереть, защищая его?
– Да здравствует король!
Одинокий возглас тотчас подхватили троекратно; стены огромного зала дрожали от дружного крика. Людовик улыбнулся и повел в воздухе ладонью, показывая, что хочет говорить дальше.
– Я не страшусь за себя, но я страшусь за Францию.