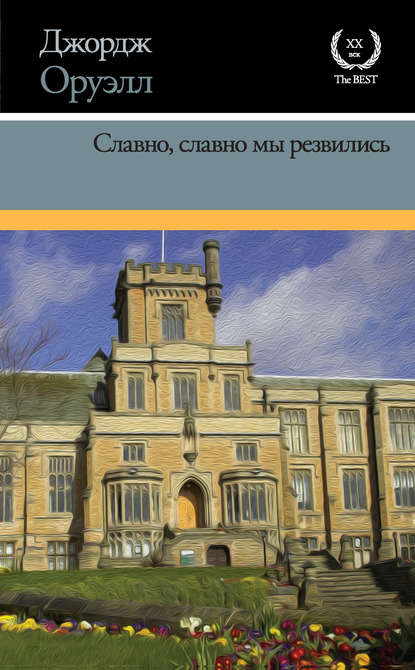По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Славно, славно мы резвились
Автор
Жанр
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Варфоломеевская ночь!
– 1707?
– Смерть падишаха Аурангзеба!
– 1713?
– Утрехтский договор!
– 1773?
– Бостонское чаепитие!
– 1520?
Со всех скамей: «О, мдэм, пожалуйста, меня спросите!.. Мдэм, можно я скажу?.. Меня, меня, пожалуйста!..
– Ну? 1520?
– Долина золотой парчи!
И т. д.
На истории и прочих второстепенных уроках мы неплохо проводили время. Зато на классике потели вовсю. Оглядываясь назад, я убеждаюсь, что никогда потом так тяжко не трудился, хотя тогда усилия казались далеко не стоящими одобрения. Мы сидели вокруг длинного полированного стола из какой-то очень светлой, очень ценной древесины, а Самбо нас ругал, терзал, подхлестывал, порой вышучивал, крайне редко хвалил – теребил и теребил наши мозги, поддерживая нужный градус концентрации, подобно тому, как засыпающего человека иголками принуждают бодрствовать.
– Трудись, лодырь! Работай, трутень бестолковый! Насквозь бездельник. Объедаешься ты, вот что. В столовой лопать как волк, а сюда подремать? Давай-давай, включайся! Ничего не соображаешь. Мозгами надо шевелить!
Самбо стучал по нашим лбам своим карандашом в серебряном футляре (мне этот карандаш запомнился огромным, размером с банан, но он действительно годился здоровенные шишки набивать) или драл за виски, а то нагнется, и кулаком по щиколотке. Случались дни, когда все шло вкривь и вкось, и тогда следовало: «Ясно! Я понял, чего ты добиваешься. Ладно, оболтус, вставай, ступай в кабинет». И в кабинете вжик-вжик-вжик, и возвращаешься исполосованный до крови, со жгучей болью – вместо охотничьего стека Самбо завел себе более продуктивную гибкую трость из ротанга, – и вновь садишься работать. Происходило подобное не так уж часто, но не раз в мои дни ученик, получивший приговор на середине латинской цитаты, уводился для порки и, вернувшись, дописывал начатый фрагмент, и ничего. Напрасно полагают, что метод порки не работает. Отлично он работает по специальному назначению. Я вообще сомневаюсь, что успехов в классическом образовании можно достичь без плетки. Сами ребята верили в эффективность метода. Был у нас парнишка, Бичем, мозгами не удался, но, видимо, остро нуждался в стипендии. Самбо хлестал его так, что конь бы рухнул. Бичем ездил экзаменоваться в Аппингем, приехал обратно с сознанием явного провала, через пару дней опять был жестко выпорот за нерадивость. «Эх, вот перед экзаменом-то меня не высекли!» – горько сетовал Бичем. Резюме звучало не слишком достойно, но я паренька понимал.
Тренировали кандидатов в стипендиаты по-разному. Сынков богачей, сполна вносивших плату, Самбо погонял отеческим манером, шутливо тыча карандашом под ребра, изредка постукивая по лбу, но за волосы не таскал и не порол. Страдали умники из бедных. Их мозги были золотой жилой глубокого залегания, тут золотишко добывалось способом выколачивания. Задолго до того как мне открылась финансовая специфика моего положения у Самбо, я ощутил, что стою ниже других ребят. Школяры делились на три касты: высшее меньшинство из крупных богачей и знати, срединное большинство из буржуазных состоятельных семейств, а на дне кучка лиц вроде меня: дети священников, чиновников колоний, вдов со скромной пенсией за покойного мужа и т. п. Бедноту держали вдали от интересных «добавочных занятий» типа стрельбы или столярки, унижали по части костюма, белья, владения всякими предметами. Мне, например, так и не пришлось заиметь собственную крикетную биту – «твои родители не могут себе этого позволить» (реплика, язвившая меня на протяжении всех школьных лет). В Киприане нельзя было оставлять при себе взятые из дома деньги, их сразу по приезде следовало сдать, а потом разрешалось понемногу брать и тратить под надзором педагогов. Мне и ученикам подобного разряда всегда препятствовали в покупках какой-нибудь модели аэроплана или иной дорогой игрушки, даже если личный кредит позволял. Флип вообще настойчиво стремилась привить нам на будущее подобающую беднякам скромность запросов: «Ты уверен, что такому, как ты, мальчику необходима эта вещь?» Помню, как она внушала одному из нас – выговаривала перед всей школой: «Не пора ли внимательнее обращаться с деньгами? Семья у тебя небогатая. Ты должен тратить разумно, не заноситься!» У Флип было четко расписано, кому и сколько выдавать еженедельно на карманные расходы, позволявшие ученикам побаловать себя сластями. Миллионщикам вручалось по шесть пенсов, остальным ребятам – по три, лишь мне и еще нескольким – всего по два. Мои родители об этом не просили, расход в лишний пенс, я полагаю, их не разорил бы, – это была метка статуса. Однако горше всего дело обстояло с праздничным тортом. Каждому мальчику в день рождения преподносился огромный кремовый торт со свечами. Лакомились все участники общего чаепития, стоимость пиршества приплюсовывалась к счету за учебу. И на такой расход мои родители пошли бы довольно легко, но меня школьным тортом не поздравляли. И год за годом, не решаясь выяснить вопрос, я продолжал отчаянно надеяться, что торт мне будет. Пару раз даже сгоряча объявлял соученикам насчет предстоящего угощения. Потом наступал час пить чай – и чай был, а вот торта не было, что не добавило мне популярности.
Очень рано меня придавили мыслью, что нет никаких шансов на достойное будущее, если я не выиграю стипендию колледжа. Либо получу стипендию, либо с четырнадцати лет стану, как говаривал Самбо, «нищей конторской шушерой». При той моей ситуации не поверить было невозможно. В Киприане само собой разумелось, что, не попав в «хороший» колледж (а таковыми признавались лишь десятка полтора), ты губишь себя навсегда. Взрослым людям не объяснить терзавшее подростка нервное напряжение в ожидании какой-то страшной судьбоносной битвы, а дата боя приближалась – тебе двенадцатый год, уже тринадцатый, и вот уже пошел четырнадцатый, роковой! На протяжении двух лет дня не было, чтобы «экзам» (так назывался у нас конкурсный экзамен) не грыз мне душу. Он неизменно присутствовал в моих молитвах, и если в порции курятины мне доставалась дужка грудной косточки или я находил подкову, или отбивал семь поклонов новой луне, или проскальзывал через калитку, не коснувшись боковых столбиков, – всякая заработанная удача отдавалась «экзаму». Но, странным образом, одновременно мучили припадки неодолимой лени. Нахлынет тоска от дальнейших трудов, и вдруг упрешься, тупой как баран, перед простейшим переводом. К тому же я совершенно не мог работать на каникулах. Дабы возможные стипендиаты не расслабились, нас и дома, по почте поощряли заданиями от некоего мистера Бэчлора, обросшего бородой и шевелюрой симпатяги, который носил ворсистые пиджаки и жил где-то в городе в типичном холостяцком логове (по стенам сплошь полки с книгами и все насквозь прокурено). В каникулярное время мистер Бэчлор раз в неделю присылал нам пачки текстов. Но у меня как-то не ладилось. Чистые листы и черный латинский словарь лежали на столе, сознание невыполненного долга отравляло дни отдыха от школы, но никак было не приступить, и к концу каникул я отправлял мистеру Бэчлору всего полсотни-сотню строк. Несомненно, тут способствовала удаленность от Самбо с его тростью. Однако и на школьных занятиях временами я охотно поддавался приступам лености и тупости – мне именно хотелось впасть в немилость, я даже ее добивался невнятной плаксивой строптивостью, всецело сознавая себя грешником, но неспособным или нежелающим (в этом поди-ка разберись) исправиться. Тогда следовал вызов к Самбо или Флип, и отнюдь не для порки.
Флип вперялась в меня своими зловещими глазами. (Какого, кстати, цвета были эти глаза? Мне помнятся «зеленые», но не бывает у людей зеленых глаз. Вероятно, они были просто карими.)
– Ужасно мило ты себя ведешь, не правда ли? Ну разве не отличная игра с родителями – лентяйничать здесь день за днем, месяц за месяцем? Ты хочешь растерять все свои шансы? А ты ведь знаешь, что родители не богачи, они не могут себе позволить того же, что в других семьях. Как им отправить тебя в колледж, если ты не выиграешь стипендию? А твоя мама так гордится тобой! Хочешь ее огорчить?
– По-моему, он не намерен учиться дальше, – вступал Самбо, обращаясь к Флип и как бы не замечая моего присутствия. – По-моему, он бросил об этом думать. Решил стать нищей конторской шушерой!
У меня уже теснило в груди, щипало в носу, подкатывались слезы. Флип выкладывала козыри:
– И ты считаешь, справедливо так поступать с нами? После всего для тебя сделанного? А ты ведь знаешь, сколько мы для тебя сделали, ты знаешь, правда? – Глаза ее сверлили меня, и, хотя она не говорила напрямик, я знал. – Тебя держали в школе столько лет, тебя учили, даже в каникулы с тобой занимался мистер Бэчлор. Нам не хотелось бы тебя отчислить, но мы не можем держать в школе мальчика, который семестр за семестром только питается в нашей столовой. Не думаю, что ты пошел верной тропой. Как тебе кажется?
На все вопросы я умел лишь мямлить «да, мдэм», «нет, мдэм». С очевидностью представало, что тропа, которой я пошел, была неверной. И копившиеся слезы неудержимо брызгали, и кап-кап по щекам…
Флип никогда прямо не называла меня нахлебником, но все эти туманные «мы столько для тебя сделали» просто душу вытягивали. Самбо, не рвавшийся завоевать симпатию учеников, говорил жестче, хотя со свойственной ему высокопарностью. Излюбленная его фраза в данном контексте: «Не впрок тебе мои щедроты!» Приходилось слышать эту сентенцию и в такт свистевшим ударам трости. Должен сказать, подобные беседы велись со мной нечасто и лишь единожды в присутствии других ребят. Публично мне напомнили, что мои бедные родители «не могут себе позволить», когда уже не оставалось других дисциплинарных мер. Последний решающий аргумент был применен как орудие казни, когда я впрямь разленился до крайности.
Чтобы понять силу воздействия этаких пыток на ребенка чуть старше десяти, надо учесть, что у подростка еще не развито чувство соразмерности, сообразности. У него может быть в избытке эгоизма и бунтарства, но не накоплен опыт для уверенных собственных выводов. В целом он примет то, что ему сказано, поверит самым фантастичным представлениям о знаниях и правах окружающих взрослых. Вот пример. Я упоминал, что в Киприане не разрешалось держать свои деньги при себе. Однако все же удавалось утаить пару шиллингов, и порой я украдкой тешился покупкой сластей, которые прятал в листьях плюща у стены игровой площадки. Посланный как-то с поручением в город, я навестил кондитерскую лавку в миле от школы и купил кулек конфет. Уже на выходе мне бросился в глаза хитроватого вида мужичок, стоявший напротив лавки и чересчур уж пристально глядевший на мою школьную фуражку. Меня продрало ужасом. Сомнений не возникло, кто это – подосланный Самбо шпион! Изображая безразличие, я отвернулся, а затем, словно ноги сами понесли, кинулся, спотыкаясь, прочь. Забежав за угол, я принудил себя идти шагом: бег обличал во мне преступника, а ведь шпионы, разумеется, шныряли по всему городу. До самой ночи и назавтра я ждал вызова на допрос, был весьма удивлен, что за мной не пришли. Ничуть не показалось странным, что в распоряжении директора частной школы армия информаторов, притом, конечно же, бесплатных. Мне думалось, любой взрослый из школы и вне ее готов трудиться добровольно, выслеживая юных правонарушителей. Самбо всесилен – у него, естественно, везде агенты. А в этом эпизоде мне было уже никак не меньше двенадцати лет.
Я ненавидел Флип и Самбо какой-то стыдящейся, мучившей мою совесть ненавистью, но в голову не приходило усомниться в их вердиктах. Раз они говорили, что или стипендия колледжа, или судьба нищей конторской шушеры, стало быть, только так – и не иначе. А главное, я верил их словам о безмерных благодеяниях. Теперь-то ясно, что в глазах Самбо я был неплохим бизнесом. Директор вложил в меня деньги и алчно ждал дивидендов в виде престижа. Если бы я вдруг «спекся», как случалось с перспективными пареньками, воображаю, сколь решительно меня бы вышибли. Когда в положенное время я смог-таки добыть стипендии, Самбо наверняка использовал сей факт в своей рекламе на полную катушку.
Детям не осознать, что школа – это в первую очередь предприятие коммерческое. Ребенок полагает целью школы обучение и делит строгих педагогов на воспитателей доброжелательных или глумливых. Самбо и Флип желали мне добра, и пусть их доброе отношение ко мне включало порку, унижение, упреки – все это было мне во благо, спасая от затхлой конторы. Такую версию мне предложили, я уверовал. И значит, долг требовал неустанно благодарить учителей. Но не испытывал я к Флип и Самбо благодарности. Напротив, страшно ненавидел их обоих. Ни контролировать свои эмоции, ни спрятать чувства от себя я был не в силах. А это ведь великий грех – возненавидеть благодетелей? Так мне внушали, так верил я сам. Даже бунтующий ребенок признает моральный кодекс, представленный ему старшими. С восьмилетнего возраста, если не раньше, сознание грешности всегда витало рядом. Попытки выказать бесчувственное непокорство тонкой пленкой прикрывали бездну смятения и стыда. Сквозь все детские годы я пронес убеждение в том, что плох, что даром трачу время, гублю свои способности, что чудовищно туп, злобен, неблагодарен – и беспросветно, ибо жить мне довелось среди законов абсолютных, как закон всемирного тяготения, но с личной невозможностью им соответствовать.
3
Ни одно из стремящихся к правдивости воспоминаний о школьном детстве не окажется абсолютно черным.
В массе моих мрачных впечатлений от лет в Киприане помнится кое-что светлое. Бывали летом после полудня чудесные походы через дюны к деревням Берлинг-Гап, Бичи-Хэд, когда ты купался на каменистом морском мелководье и возвращался, покрытый ссадинами. Еще чудесней были вечера, когда в самую жаркую летнюю пору нас ради целительной прохлады не загоняли спать в обычный час, а позволяли бродить по саду до поздних сумерек и напоследок перед сном нырнуть в бассейн. А еще радость летом проснуться до побудки – комната залита солнцем, все спят – и часок без помехи почитать любимых авторов (у меня это были Йен Хэй, Теккерей, Киплинг, Уэллс…). А еще крикет, совершенно мне не дававшийся, но лет до восемнадцати страстно и безответно мной обожаемый. А еще удовольствие держать у себя красивых гусениц: шелковистая зеленовато-пурпурная гарпия, прозрачно-зеленый тополевый бражник, сиреневый бражник размером со средний палец – отличные экземпляры можно было нелегально приобрести на шестипенсовик в городской лавочке. Или восторг вылавливания из мутного прудика в дюнах громадных желтобрюхих тритонов, если повезет временно сбежать от педагога, который «вывел на прогулку». Обычное дело на этих школьных прогулках: только обнаружишь что-то занятное, тебя с криком отдергивают, будто пса на поводке, что формирует у многих детей стойкое убеждение в недостижимости того, чего хотелось бы больше всего на свете.
Крайне редко, может, лишь разок за лето, удавалось вообще вырваться из казарменной атмосферы школы, когда Брауну, рядовому преподавателю, разрешали взять с собой в поход пару мальчишек, жаждавших поохотиться на бабочек. Седой, с лицом, похожим на спелую землянику, Браун замечательно учил естествознанию, сооружая модели и макеты, используя волшебный фонарь и прочее в том же роде. Из всех взрослых, как-либо связанных со школой, только он и мистер Бэчлор не вызывали у меня страха или неприязни. Однажды Браун в своей комнате по секрету показал мне хранившийся в коробке у него под кроватью револьвер с перламутровой рукояткой («шестизарядный», как он пояснил). О, счастье тех редчайших экспедиций! Поездом по узкоколейке за две-три мили, день беготни туда-сюда с большими зелеными сачками, прелесть парящей над травой огромной стрекозы, острый запах дурманящего яда из аптечного пузырька, а к вечеру в зале паба чай с щедрыми ломтями бледного сливочного торта! Суть наслаждения составляла железнодорожная поездка, магически перемещавшая тебя в мир по ту сторону от школы.
Флип, что характерно, не одобряла этих, хотя и дозволяемых, экспедиций. «Собрался малыш крошек-бабочек ловить?» – издевательски пищала она нарочито детским голоском. Интерес к природе (на ее языке, вероятно, «страсть к букашкам») она полагала ребячеством, для подростка смешным и нелепым. Кроме того, здесь чудилось нечто презренное, вызывавшее ассоциации с неуклюжими в спорте очкариками, и это было бесполезно для конкурсных экзаменов, даже вредно, ибо имело привкус точных наук, угрожавших классическому образованию. Флип требовалось немало пересилить себя, чтобы согласиться с предложенной Брауном поездкой. И как я боялся издевок насчет «крошек-бабочек»! Однако Браун, работавший в школе от ее основания и завоевавший себе определенную независимость, с владыкой Самбо был накоротке, а на Флип обращал мало внимания. Если случалось обоим руководителям уехать, он замещал директора и вместо утреннего чтения в церкви текстов из Библии читал нам истории из апокрифов.
Большинство моих приятных воспоминаний о детстве и юности так или иначе связано с животными. И что касается лет пребывания в Киприане, все хорошее видится непременно в летнюю пору. Зимой вечно течет из носа, окоченевшими пальцами не застегнуть пуговицы на рубашке (особенная мука по воскресеньям, когда надо нацеплять «итонский» широкий крахмальный воротник) и ежедневный футбольный кошмар – холод, слякоть, облепленный грязью сальный мяч прямо в лицо, избитые коленки, пинающие бутсы старшеклассников. Беда была еще в том, что в зимнее (по крайней мере – учебное) время мне почти постоянно нездоровилось. Много лет спустя выяснилось, что с бронхами был непорядок и одно легкое повреждено. Не только хронический кашель донимал, но бегать было невмоготу. В те годы, однако, «одышливость» или «грудную слабость», как тогда называлось, к болезням не причисляли, полагая изъяном не физическим, а моральным, возникающим вследствие обжорства. «Сипишь как старая гармонь, – ворчал Самбо, стоя за моим стулом. – Живот чересчур набиваешь, вот что!» Кашель мой именовали «желудочным», что звучало гадко и предосудительно. Лекарством предлагался бег, который при хорошем темпе и достаточно длинной дистанции отлично «прочищает грудь».
Не говоря о главных тяготах, любопытна степень бытовой скудости и запущенности, повсеместно присущих тогдашним дорогим частным школам. Почти как во времена Теккерея считалось нормальным, что маленький ученик – это жалкий сопливец: лицо чумазое, руки потрескались, ногти обгрызены, в кармане жуткая мокрая мерзость (бывший носовой платок) и зад, частенько синий от побоев. В последние дни каникул ложившийся на сердце груз утяжелялся свинцовой тоской от перспективы школьного обихода. Характерное воспоминание о Киприане – поразившая на первом тамошнем ночлеге жесткость матраса, будто набитого камнями. Попав в столь дорогую школу, я поднялся по социальной лестнице, но уровень комфорта в Киприане был много ниже, чем у нас в доме и даже в домах зажиточных пролетарских семейств. Ни до, ни после мне не доводилось видеть бутербродов с таким прозрачным слоем масла или джема. Может, мне кажется, что мы недоедали, однако помнится, как далеко нас заводила страсть воровать еду. Помню себя крадущимся часа в два ночи через неизмеримые пространства темных лестниц и коридоров – босиком, на каждом шагу останавливаясь и обмирая от тройного ужаса перед Самбо, грабителями, привидениями, – чтобы украсть из кладовой кусок черствого хлеба. Рядовые учителя столовались вместе с нами, но еда у них была получше, и мы не упускали шанса подтибрить с их грязных тарелок корочки ветчины, остатки жареной картошки.
Как и во всем ином, я не увидел тут коммерческих расчетов. В целом мнение Самбо о патологическом и требующем укрощения аппетите растущих мальчишек я принимал. Нам часто повторялась сентенция насчет того, что здоров тот, кто встает из-за стола таким же голодным, как садился. Всего лишь поколением раньше было в обычае перед обедом потчевать школяров порцией пресного пудинга с почечным салом, откровенно ставя целью «перебить аппетит». Вероятно, в государственных школах с официально установленным ученическим рационом недокорм был менее вопиющим, нежели в дорогих частных интернатах, где руководство позволяло (и явно предполагало) покупку учениками дополнительной снеди. В некоторых заведениях буквально нельзя было наесться досыта, если самому себе регулярно не покупать яиц, сардин, сосисок и прочего – и если, разумеется, иметь на это деньги от родителей. Не знаю, как в школе Итона, но в Итонском колледже, к примеру, воспитанники после полуденной трапезы плотной еды уже не получали. Только чаепитие, а на убогий ужин иногда суп, иногда жареная рыба, чаще же просто хлеб с сыром и стакан воды. Съездив повидать в Итоне старшего сына, Самбо вернулся, полный снобистского экстаза от роскошного житья студентов: «У них на ужин жареная рыба! – захлебывался он, сияя щекастой физиономией. – Где в мире юношество может получить подобное?» Ха, жареная рыба! Стандартный ужин в беднейших рабочих семьях. Ситуация с кормлением в дешевых частных интернатах была, конечно, еще хуже. Из глубин очень ранней моей памяти всплывает картинка: за столом в приготовительной школе сидят ребята (наверное, дети лавочников или фермеров) и едят вареные потроха.
Пишущему о своем детстве следует остерегаться преувеличений и жалости к себе. Не утверждаю, что я был страдальцем, что Киприан был копией Дотбойс-Холла[10 - Отвратительно жестокая частная школа в романе Диккенса «Жизнь и приключения Николаса Никльби».]. Но я солгал бы, не сказав об отвращении, заметной долей присутствовавшем в моих чувствах. Многое в нашей несытной школьной жизни вспоминается с физической брезгливостью. Стоит, закрыв глаза, шепнуть себе «школа», и сразу передо мной плешь игрового поля с павильоном для крикета, сарайчик на стрельбище, продуваемые сквозняками дортуары, пыльные облупившиеся коридоры, асфальтовая площадка перед главным зданием и позади него молельня из грубых, занозистых сосновых досок. И почти отовсюду лезет какая-нибудь гадкая деталь. Например, кашу мы ели из оловянных мисок, под загнутыми краями которых всегда скапливалась и ленточками шелушилась засохшая овсянка. Сама каша содержала столько комков, волос и загадочных черных крупинок, словно эти ингредиенты входили в кулинарный рецепт. Без предварительного исследования приступать к поеданию овсянки было опасно. А гнусноватая вода в бассейне длиной футов пятнадцать – в нем по утрам плескалась вся школа, и сомневаюсь, что воду там меняли очень часто. А вечно влажные полотенца, пованивающие сыром, а редкие зимние визиты в местную баню, куда мутную морскую воду накачивали прямо с пляжа, возле кромки которого я как-то видел плавающее на волнах человеческое дерьмо. А запах пота в раздевалке возле не вычищенных от сальной грязи ванн, уступающих разве что шеренге обшарпанных туалетных кабинок с дверями без каких-либо задвижек, так что, едва сядешь, кто-нибудь к тебе непременно вломится. Нелегко мне вспомнить школьные годы без того, чтобы вмиг не шибануло чем-то противным и зловонным – смесью потных чулок, грязных полотенец, достаточно ощутимо веющего по коридорам запаха фекалий, вилок с окаменевшими, навек застрявшими между зубцов остатками жилистого бараньего рагу. И грохот дверей в уборных, и дребезжание дортуарных ночных горшков.
Это правда, что я существо не стадное, а такие стороны жизни, как клозет или сопливый носовой платок, особенно навязчивы, когда множество людей толчется на небольшом пространстве. Так же плохо в армии и еще хуже, без сомнения, в тюрьме. К тому же отрочество – возраст нетерпимости. Пока не научишься различать, не закалишься (процесс этот у человека, говорят, идет лет с семи до восемнадцати), все кажется, что ходишь по канату над выгребной ямой. Но вряд ли я сгущаю краски, вспоминая пренебрежение, с каким в школе относились к здоровью и гигиене, несмотря на о-го-го! по поводу свежего воздуха, холодных обливаний и спортивного тренажа. Обычным делом были многодневные запоры у школьников. Трудно ведь вдохновиться на очистку кишечника, если слабительным предлагается касторовое масло либо почти столь же ужасный лакричный порошок. Или вот бассейн. Нырять в него нам полагалось каждое утро, но некоторые из ребят увиливали чуть не по неделе, просто скрываясь, когда колокольчик звал купаться, или ловко таясь за спинами толпящихся у края бассейна, а затем смачивая волосы грязной водой с пола. Ребенок восьми-девяти лет не всегда будет держать себя в чистоте, если за ним не присматривать. Незадолго до моего окончания школы у нас появился новичок по фамилии Хэйзл, хорошенький мамочкин любимчик, и первое, что мне бросилось в глаза, – жемчужная белизна его зубов. К концу семестра эти жемчужины приобрели невероятный оттенок зелени. Видно, за все время никто не удосужился проследить, чистит ли мальчик зубы.
Но, конечно, разница между домом и школой была гораздо больше ощущений чисто физических. Удар, в первую же ночь нанесенный мне школьным каменным матрасом, сотряс чувства, ясно и грозно сообщив: «Вот где тебе теперь придется выживать!» Родной дом может быть весьма далек от совершенства, однако там все же правит любовь, а не страх, вынуждающий держаться в постоянном опасливом напряжении. В восемь лет тебя вдруг вытряхнули из теплого гнезда, швырнув в мир силы, лжи и тайны, как золотую рыбку в цистерну с щуками. Против издевательств любого рода у тебя никакого оружия. Единственный способ защиты – ябедничать, что за исключением нескольких четко установленных случаев непростительная подлость. А написать домой и попросить забрать тебя – вообще немыслимо, ибо это означало бы признать себя жалким и не имеющим успеха, а на это мальчишка пойти не может. Юные жители страны Едгин[11 - «Едгин» (в оригинале «Erewhon») – представляющее анаграмму слова «нигде» название сатирической утопии Сэмюэля Батлера. В фантастической стране Едгин, пародии на викторианскую Англию, преступно было оказаться больным или несчастным.] полагали несчастье позором, который надо всячески скрывать. Возможно, в школе было допустимо пожаловаться родителям на скверное питание, незаслуженную порку или иную жестокость со стороны учителей (но не товарищей!). Тот факт, что Самбо никогда не порол богатых учеников, свидетельствует о наличии подобных жалоб. Но в моих специфических обстоятельствах я ни за что не обратился бы к родителям. Задолго до того как я сообразил насчет льготного тарифа, мне было понятно, что отец с матерью чем-то обязаны директору, а стало быть, им невозможно меня от него защитить. Я уже говорил, что в Киприане у меня не было собственной крикетной биты по причине «твои родители не могут себе этого позволить». Однажды на каникулах благодаря брошенному вскользь замечанию выяснилось, что десять шиллингов для покупки биты мои родители директору дали. Тем не менее заветной биты я в школе не получил. И ни слова не сказал об этом дома и уж конечно не предъявил претензий Самбо. Как я мог? Я жил на его иждивении, и десять шиллингов были каплей в море моего неоплатного долга. Теперь я полагаю крайне маловероятным, что директор присвоил мои деньги, – наверняка просто запамятовал эту мелочь. Но я-то тогда счел, что сумма им присвоена и что он, коли захотелось, имел право так поступить.
Насколько трудна для детей личная независимость, демонстрирует наше поведение с Флип. Думаю, справедливо будет сказать, что каждый из воспитанников ее ненавидел и боялся. Однако все мы перед ней заискивали самым презренным образом, изощряясь в выражении какой-то страдательной преданности. Хотя школьная дисциплина зависела от нее больше, чем от Самбо, Флип даже не играла в неукоснительную справедливость. Она была откровенно капризна. Сегодня за некое деяние она назначит тебе порку, а завтра в связи с тем же преступлением лишь посмеется над детской шалостью или даже похвалит: «Каков храбрец!» Бывали дни, когда все холодели от ее словно глядевших из пещеры обвиняющих глаз, а то вдруг явится жеманной королевой в окружении придворных кавалеров, шутит, щедро рассыпает дары или обещания даров («выиграешь премию Харроу по истории, куплю тебе футляр для фотокамеры!»). Иной раз даже посадит любимцев в свой «Форд» и свозит их в городское кафе, где дозволит угоститься кофе с пирожными. Флип у меня в голове как-то сливалась с образом королевы Елизаветы, о чьих романах с Лестером, Эссексом и Рэйли я был оповещен уже в раннем возрасте. Самым популярным словом в разговорах о Флип у нас звучал «фавор» – «я сейчас в фаворе», «нынче я не в фаворе». За исключением горстки мальчиков, являвшихся или числившихся богачами, в постоянном фаворе никто не пребывал, но, с другой стороны, и самые последние изгои имели шанс время от времени там оказаться. Так, при том что мои воспоминания о Флип в основном неприязненны, помнятся долгие периоды, когда и я купался в лучах ее улыбок, когда она называла меня «старина» и по имени и разрешала брать книги из ее личной библиотеки, благодаря чему я впервые прочел «Ярмарку тщеславия»[12 - Роман У. Теккерея.]. Высшим уровнем фавора бывало приглашение служить у стола на воскресных ужинах Флип и Самбо. Тут, конечно, тебе светило, убирая посуду, поживиться остатками с тарелок, но прежде всего холуйское счастье вытянуться за стульями гостей и почтительно кидаться вперед, если гость чего-нибудь пожелает. Всякий, имевший возможность лебезить, лебезил, и от первой улыбки ненависть превращалась в раболепное обожание. Я всегда бывал чрезвычайно горд, когда мне удавалось заставить Флип рассмеяться. Я даже по ее велению писал дежурные шуточные стихи к знаменательным событиям школьной жизни.
Хочу прояснить и подчеркнуть – я не был бунтарем, только если силою обстоятельств. Я принял кодекс бытия. Настолько, что однажды, под конец моей учебы в Киприане, явился к Брауну с секретным донесением об эпизоде, подозрительно намекавшем на гомосексуализм. Насчет гомосексуализма я был весьма несведущ, но я знал, что эпизод произошел, что это плохо и что здесь именно та ситуация, в которой донести правильно. Одобрительное учительское «молодчина!» вогнало в жуткий стыд.
Перед Флип ты оказывался беспомощно податливым, как змея перед заклинателем змей. В ее довольно однообразной лексике имелся целый набор хвалебных и порицающих фраз, точно рассчитанных на определенную реакцию. «Вперед, парень!» – и шквал энтузиазма взмывал до небес. Или «не строй из себя дурачка!» (вариант: «как трогательно, правда?») – и полное ощущение себя дебилом. Или «не слишком-то это справедливо с твоей стороны, скажи?» – и к глазам подступали слезы. И все же, все же в глубине души таилась неизменная твоя сущность, знавшая правду о тебе – хихикал ты или хныкал, или трепетал от благодарности за скудную милость, единственным подлинным чувством была ненависть.
– 1707?
– Смерть падишаха Аурангзеба!
– 1713?
– Утрехтский договор!
– 1773?
– Бостонское чаепитие!
– 1520?
Со всех скамей: «О, мдэм, пожалуйста, меня спросите!.. Мдэм, можно я скажу?.. Меня, меня, пожалуйста!..
– Ну? 1520?
– Долина золотой парчи!
И т. д.
На истории и прочих второстепенных уроках мы неплохо проводили время. Зато на классике потели вовсю. Оглядываясь назад, я убеждаюсь, что никогда потом так тяжко не трудился, хотя тогда усилия казались далеко не стоящими одобрения. Мы сидели вокруг длинного полированного стола из какой-то очень светлой, очень ценной древесины, а Самбо нас ругал, терзал, подхлестывал, порой вышучивал, крайне редко хвалил – теребил и теребил наши мозги, поддерживая нужный градус концентрации, подобно тому, как засыпающего человека иголками принуждают бодрствовать.
– Трудись, лодырь! Работай, трутень бестолковый! Насквозь бездельник. Объедаешься ты, вот что. В столовой лопать как волк, а сюда подремать? Давай-давай, включайся! Ничего не соображаешь. Мозгами надо шевелить!
Самбо стучал по нашим лбам своим карандашом в серебряном футляре (мне этот карандаш запомнился огромным, размером с банан, но он действительно годился здоровенные шишки набивать) или драл за виски, а то нагнется, и кулаком по щиколотке. Случались дни, когда все шло вкривь и вкось, и тогда следовало: «Ясно! Я понял, чего ты добиваешься. Ладно, оболтус, вставай, ступай в кабинет». И в кабинете вжик-вжик-вжик, и возвращаешься исполосованный до крови, со жгучей болью – вместо охотничьего стека Самбо завел себе более продуктивную гибкую трость из ротанга, – и вновь садишься работать. Происходило подобное не так уж часто, но не раз в мои дни ученик, получивший приговор на середине латинской цитаты, уводился для порки и, вернувшись, дописывал начатый фрагмент, и ничего. Напрасно полагают, что метод порки не работает. Отлично он работает по специальному назначению. Я вообще сомневаюсь, что успехов в классическом образовании можно достичь без плетки. Сами ребята верили в эффективность метода. Был у нас парнишка, Бичем, мозгами не удался, но, видимо, остро нуждался в стипендии. Самбо хлестал его так, что конь бы рухнул. Бичем ездил экзаменоваться в Аппингем, приехал обратно с сознанием явного провала, через пару дней опять был жестко выпорот за нерадивость. «Эх, вот перед экзаменом-то меня не высекли!» – горько сетовал Бичем. Резюме звучало не слишком достойно, но я паренька понимал.
Тренировали кандидатов в стипендиаты по-разному. Сынков богачей, сполна вносивших плату, Самбо погонял отеческим манером, шутливо тыча карандашом под ребра, изредка постукивая по лбу, но за волосы не таскал и не порол. Страдали умники из бедных. Их мозги были золотой жилой глубокого залегания, тут золотишко добывалось способом выколачивания. Задолго до того как мне открылась финансовая специфика моего положения у Самбо, я ощутил, что стою ниже других ребят. Школяры делились на три касты: высшее меньшинство из крупных богачей и знати, срединное большинство из буржуазных состоятельных семейств, а на дне кучка лиц вроде меня: дети священников, чиновников колоний, вдов со скромной пенсией за покойного мужа и т. п. Бедноту держали вдали от интересных «добавочных занятий» типа стрельбы или столярки, унижали по части костюма, белья, владения всякими предметами. Мне, например, так и не пришлось заиметь собственную крикетную биту – «твои родители не могут себе этого позволить» (реплика, язвившая меня на протяжении всех школьных лет). В Киприане нельзя было оставлять при себе взятые из дома деньги, их сразу по приезде следовало сдать, а потом разрешалось понемногу брать и тратить под надзором педагогов. Мне и ученикам подобного разряда всегда препятствовали в покупках какой-нибудь модели аэроплана или иной дорогой игрушки, даже если личный кредит позволял. Флип вообще настойчиво стремилась привить нам на будущее подобающую беднякам скромность запросов: «Ты уверен, что такому, как ты, мальчику необходима эта вещь?» Помню, как она внушала одному из нас – выговаривала перед всей школой: «Не пора ли внимательнее обращаться с деньгами? Семья у тебя небогатая. Ты должен тратить разумно, не заноситься!» У Флип было четко расписано, кому и сколько выдавать еженедельно на карманные расходы, позволявшие ученикам побаловать себя сластями. Миллионщикам вручалось по шесть пенсов, остальным ребятам – по три, лишь мне и еще нескольким – всего по два. Мои родители об этом не просили, расход в лишний пенс, я полагаю, их не разорил бы, – это была метка статуса. Однако горше всего дело обстояло с праздничным тортом. Каждому мальчику в день рождения преподносился огромный кремовый торт со свечами. Лакомились все участники общего чаепития, стоимость пиршества приплюсовывалась к счету за учебу. И на такой расход мои родители пошли бы довольно легко, но меня школьным тортом не поздравляли. И год за годом, не решаясь выяснить вопрос, я продолжал отчаянно надеяться, что торт мне будет. Пару раз даже сгоряча объявлял соученикам насчет предстоящего угощения. Потом наступал час пить чай – и чай был, а вот торта не было, что не добавило мне популярности.
Очень рано меня придавили мыслью, что нет никаких шансов на достойное будущее, если я не выиграю стипендию колледжа. Либо получу стипендию, либо с четырнадцати лет стану, как говаривал Самбо, «нищей конторской шушерой». При той моей ситуации не поверить было невозможно. В Киприане само собой разумелось, что, не попав в «хороший» колледж (а таковыми признавались лишь десятка полтора), ты губишь себя навсегда. Взрослым людям не объяснить терзавшее подростка нервное напряжение в ожидании какой-то страшной судьбоносной битвы, а дата боя приближалась – тебе двенадцатый год, уже тринадцатый, и вот уже пошел четырнадцатый, роковой! На протяжении двух лет дня не было, чтобы «экзам» (так назывался у нас конкурсный экзамен) не грыз мне душу. Он неизменно присутствовал в моих молитвах, и если в порции курятины мне доставалась дужка грудной косточки или я находил подкову, или отбивал семь поклонов новой луне, или проскальзывал через калитку, не коснувшись боковых столбиков, – всякая заработанная удача отдавалась «экзаму». Но, странным образом, одновременно мучили припадки неодолимой лени. Нахлынет тоска от дальнейших трудов, и вдруг упрешься, тупой как баран, перед простейшим переводом. К тому же я совершенно не мог работать на каникулах. Дабы возможные стипендиаты не расслабились, нас и дома, по почте поощряли заданиями от некоего мистера Бэчлора, обросшего бородой и шевелюрой симпатяги, который носил ворсистые пиджаки и жил где-то в городе в типичном холостяцком логове (по стенам сплошь полки с книгами и все насквозь прокурено). В каникулярное время мистер Бэчлор раз в неделю присылал нам пачки текстов. Но у меня как-то не ладилось. Чистые листы и черный латинский словарь лежали на столе, сознание невыполненного долга отравляло дни отдыха от школы, но никак было не приступить, и к концу каникул я отправлял мистеру Бэчлору всего полсотни-сотню строк. Несомненно, тут способствовала удаленность от Самбо с его тростью. Однако и на школьных занятиях временами я охотно поддавался приступам лености и тупости – мне именно хотелось впасть в немилость, я даже ее добивался невнятной плаксивой строптивостью, всецело сознавая себя грешником, но неспособным или нежелающим (в этом поди-ка разберись) исправиться. Тогда следовал вызов к Самбо или Флип, и отнюдь не для порки.
Флип вперялась в меня своими зловещими глазами. (Какого, кстати, цвета были эти глаза? Мне помнятся «зеленые», но не бывает у людей зеленых глаз. Вероятно, они были просто карими.)
– Ужасно мило ты себя ведешь, не правда ли? Ну разве не отличная игра с родителями – лентяйничать здесь день за днем, месяц за месяцем? Ты хочешь растерять все свои шансы? А ты ведь знаешь, что родители не богачи, они не могут себе позволить того же, что в других семьях. Как им отправить тебя в колледж, если ты не выиграешь стипендию? А твоя мама так гордится тобой! Хочешь ее огорчить?
– По-моему, он не намерен учиться дальше, – вступал Самбо, обращаясь к Флип и как бы не замечая моего присутствия. – По-моему, он бросил об этом думать. Решил стать нищей конторской шушерой!
У меня уже теснило в груди, щипало в носу, подкатывались слезы. Флип выкладывала козыри:
– И ты считаешь, справедливо так поступать с нами? После всего для тебя сделанного? А ты ведь знаешь, сколько мы для тебя сделали, ты знаешь, правда? – Глаза ее сверлили меня, и, хотя она не говорила напрямик, я знал. – Тебя держали в школе столько лет, тебя учили, даже в каникулы с тобой занимался мистер Бэчлор. Нам не хотелось бы тебя отчислить, но мы не можем держать в школе мальчика, который семестр за семестром только питается в нашей столовой. Не думаю, что ты пошел верной тропой. Как тебе кажется?
На все вопросы я умел лишь мямлить «да, мдэм», «нет, мдэм». С очевидностью представало, что тропа, которой я пошел, была неверной. И копившиеся слезы неудержимо брызгали, и кап-кап по щекам…
Флип никогда прямо не называла меня нахлебником, но все эти туманные «мы столько для тебя сделали» просто душу вытягивали. Самбо, не рвавшийся завоевать симпатию учеников, говорил жестче, хотя со свойственной ему высокопарностью. Излюбленная его фраза в данном контексте: «Не впрок тебе мои щедроты!» Приходилось слышать эту сентенцию и в такт свистевшим ударам трости. Должен сказать, подобные беседы велись со мной нечасто и лишь единожды в присутствии других ребят. Публично мне напомнили, что мои бедные родители «не могут себе позволить», когда уже не оставалось других дисциплинарных мер. Последний решающий аргумент был применен как орудие казни, когда я впрямь разленился до крайности.
Чтобы понять силу воздействия этаких пыток на ребенка чуть старше десяти, надо учесть, что у подростка еще не развито чувство соразмерности, сообразности. У него может быть в избытке эгоизма и бунтарства, но не накоплен опыт для уверенных собственных выводов. В целом он примет то, что ему сказано, поверит самым фантастичным представлениям о знаниях и правах окружающих взрослых. Вот пример. Я упоминал, что в Киприане не разрешалось держать свои деньги при себе. Однако все же удавалось утаить пару шиллингов, и порой я украдкой тешился покупкой сластей, которые прятал в листьях плюща у стены игровой площадки. Посланный как-то с поручением в город, я навестил кондитерскую лавку в миле от школы и купил кулек конфет. Уже на выходе мне бросился в глаза хитроватого вида мужичок, стоявший напротив лавки и чересчур уж пристально глядевший на мою школьную фуражку. Меня продрало ужасом. Сомнений не возникло, кто это – подосланный Самбо шпион! Изображая безразличие, я отвернулся, а затем, словно ноги сами понесли, кинулся, спотыкаясь, прочь. Забежав за угол, я принудил себя идти шагом: бег обличал во мне преступника, а ведь шпионы, разумеется, шныряли по всему городу. До самой ночи и назавтра я ждал вызова на допрос, был весьма удивлен, что за мной не пришли. Ничуть не показалось странным, что в распоряжении директора частной школы армия информаторов, притом, конечно же, бесплатных. Мне думалось, любой взрослый из школы и вне ее готов трудиться добровольно, выслеживая юных правонарушителей. Самбо всесилен – у него, естественно, везде агенты. А в этом эпизоде мне было уже никак не меньше двенадцати лет.
Я ненавидел Флип и Самбо какой-то стыдящейся, мучившей мою совесть ненавистью, но в голову не приходило усомниться в их вердиктах. Раз они говорили, что или стипендия колледжа, или судьба нищей конторской шушеры, стало быть, только так – и не иначе. А главное, я верил их словам о безмерных благодеяниях. Теперь-то ясно, что в глазах Самбо я был неплохим бизнесом. Директор вложил в меня деньги и алчно ждал дивидендов в виде престижа. Если бы я вдруг «спекся», как случалось с перспективными пареньками, воображаю, сколь решительно меня бы вышибли. Когда в положенное время я смог-таки добыть стипендии, Самбо наверняка использовал сей факт в своей рекламе на полную катушку.
Детям не осознать, что школа – это в первую очередь предприятие коммерческое. Ребенок полагает целью школы обучение и делит строгих педагогов на воспитателей доброжелательных или глумливых. Самбо и Флип желали мне добра, и пусть их доброе отношение ко мне включало порку, унижение, упреки – все это было мне во благо, спасая от затхлой конторы. Такую версию мне предложили, я уверовал. И значит, долг требовал неустанно благодарить учителей. Но не испытывал я к Флип и Самбо благодарности. Напротив, страшно ненавидел их обоих. Ни контролировать свои эмоции, ни спрятать чувства от себя я был не в силах. А это ведь великий грех – возненавидеть благодетелей? Так мне внушали, так верил я сам. Даже бунтующий ребенок признает моральный кодекс, представленный ему старшими. С восьмилетнего возраста, если не раньше, сознание грешности всегда витало рядом. Попытки выказать бесчувственное непокорство тонкой пленкой прикрывали бездну смятения и стыда. Сквозь все детские годы я пронес убеждение в том, что плох, что даром трачу время, гублю свои способности, что чудовищно туп, злобен, неблагодарен – и беспросветно, ибо жить мне довелось среди законов абсолютных, как закон всемирного тяготения, но с личной невозможностью им соответствовать.
3
Ни одно из стремящихся к правдивости воспоминаний о школьном детстве не окажется абсолютно черным.
В массе моих мрачных впечатлений от лет в Киприане помнится кое-что светлое. Бывали летом после полудня чудесные походы через дюны к деревням Берлинг-Гап, Бичи-Хэд, когда ты купался на каменистом морском мелководье и возвращался, покрытый ссадинами. Еще чудесней были вечера, когда в самую жаркую летнюю пору нас ради целительной прохлады не загоняли спать в обычный час, а позволяли бродить по саду до поздних сумерек и напоследок перед сном нырнуть в бассейн. А еще радость летом проснуться до побудки – комната залита солнцем, все спят – и часок без помехи почитать любимых авторов (у меня это были Йен Хэй, Теккерей, Киплинг, Уэллс…). А еще крикет, совершенно мне не дававшийся, но лет до восемнадцати страстно и безответно мной обожаемый. А еще удовольствие держать у себя красивых гусениц: шелковистая зеленовато-пурпурная гарпия, прозрачно-зеленый тополевый бражник, сиреневый бражник размером со средний палец – отличные экземпляры можно было нелегально приобрести на шестипенсовик в городской лавочке. Или восторг вылавливания из мутного прудика в дюнах громадных желтобрюхих тритонов, если повезет временно сбежать от педагога, который «вывел на прогулку». Обычное дело на этих школьных прогулках: только обнаружишь что-то занятное, тебя с криком отдергивают, будто пса на поводке, что формирует у многих детей стойкое убеждение в недостижимости того, чего хотелось бы больше всего на свете.
Крайне редко, может, лишь разок за лето, удавалось вообще вырваться из казарменной атмосферы школы, когда Брауну, рядовому преподавателю, разрешали взять с собой в поход пару мальчишек, жаждавших поохотиться на бабочек. Седой, с лицом, похожим на спелую землянику, Браун замечательно учил естествознанию, сооружая модели и макеты, используя волшебный фонарь и прочее в том же роде. Из всех взрослых, как-либо связанных со школой, только он и мистер Бэчлор не вызывали у меня страха или неприязни. Однажды Браун в своей комнате по секрету показал мне хранившийся в коробке у него под кроватью револьвер с перламутровой рукояткой («шестизарядный», как он пояснил). О, счастье тех редчайших экспедиций! Поездом по узкоколейке за две-три мили, день беготни туда-сюда с большими зелеными сачками, прелесть парящей над травой огромной стрекозы, острый запах дурманящего яда из аптечного пузырька, а к вечеру в зале паба чай с щедрыми ломтями бледного сливочного торта! Суть наслаждения составляла железнодорожная поездка, магически перемещавшая тебя в мир по ту сторону от школы.
Флип, что характерно, не одобряла этих, хотя и дозволяемых, экспедиций. «Собрался малыш крошек-бабочек ловить?» – издевательски пищала она нарочито детским голоском. Интерес к природе (на ее языке, вероятно, «страсть к букашкам») она полагала ребячеством, для подростка смешным и нелепым. Кроме того, здесь чудилось нечто презренное, вызывавшее ассоциации с неуклюжими в спорте очкариками, и это было бесполезно для конкурсных экзаменов, даже вредно, ибо имело привкус точных наук, угрожавших классическому образованию. Флип требовалось немало пересилить себя, чтобы согласиться с предложенной Брауном поездкой. И как я боялся издевок насчет «крошек-бабочек»! Однако Браун, работавший в школе от ее основания и завоевавший себе определенную независимость, с владыкой Самбо был накоротке, а на Флип обращал мало внимания. Если случалось обоим руководителям уехать, он замещал директора и вместо утреннего чтения в церкви текстов из Библии читал нам истории из апокрифов.
Большинство моих приятных воспоминаний о детстве и юности так или иначе связано с животными. И что касается лет пребывания в Киприане, все хорошее видится непременно в летнюю пору. Зимой вечно течет из носа, окоченевшими пальцами не застегнуть пуговицы на рубашке (особенная мука по воскресеньям, когда надо нацеплять «итонский» широкий крахмальный воротник) и ежедневный футбольный кошмар – холод, слякоть, облепленный грязью сальный мяч прямо в лицо, избитые коленки, пинающие бутсы старшеклассников. Беда была еще в том, что в зимнее (по крайней мере – учебное) время мне почти постоянно нездоровилось. Много лет спустя выяснилось, что с бронхами был непорядок и одно легкое повреждено. Не только хронический кашель донимал, но бегать было невмоготу. В те годы, однако, «одышливость» или «грудную слабость», как тогда называлось, к болезням не причисляли, полагая изъяном не физическим, а моральным, возникающим вследствие обжорства. «Сипишь как старая гармонь, – ворчал Самбо, стоя за моим стулом. – Живот чересчур набиваешь, вот что!» Кашель мой именовали «желудочным», что звучало гадко и предосудительно. Лекарством предлагался бег, который при хорошем темпе и достаточно длинной дистанции отлично «прочищает грудь».
Не говоря о главных тяготах, любопытна степень бытовой скудости и запущенности, повсеместно присущих тогдашним дорогим частным школам. Почти как во времена Теккерея считалось нормальным, что маленький ученик – это жалкий сопливец: лицо чумазое, руки потрескались, ногти обгрызены, в кармане жуткая мокрая мерзость (бывший носовой платок) и зад, частенько синий от побоев. В последние дни каникул ложившийся на сердце груз утяжелялся свинцовой тоской от перспективы школьного обихода. Характерное воспоминание о Киприане – поразившая на первом тамошнем ночлеге жесткость матраса, будто набитого камнями. Попав в столь дорогую школу, я поднялся по социальной лестнице, но уровень комфорта в Киприане был много ниже, чем у нас в доме и даже в домах зажиточных пролетарских семейств. Ни до, ни после мне не доводилось видеть бутербродов с таким прозрачным слоем масла или джема. Может, мне кажется, что мы недоедали, однако помнится, как далеко нас заводила страсть воровать еду. Помню себя крадущимся часа в два ночи через неизмеримые пространства темных лестниц и коридоров – босиком, на каждом шагу останавливаясь и обмирая от тройного ужаса перед Самбо, грабителями, привидениями, – чтобы украсть из кладовой кусок черствого хлеба. Рядовые учителя столовались вместе с нами, но еда у них была получше, и мы не упускали шанса подтибрить с их грязных тарелок корочки ветчины, остатки жареной картошки.
Как и во всем ином, я не увидел тут коммерческих расчетов. В целом мнение Самбо о патологическом и требующем укрощения аппетите растущих мальчишек я принимал. Нам часто повторялась сентенция насчет того, что здоров тот, кто встает из-за стола таким же голодным, как садился. Всего лишь поколением раньше было в обычае перед обедом потчевать школяров порцией пресного пудинга с почечным салом, откровенно ставя целью «перебить аппетит». Вероятно, в государственных школах с официально установленным ученическим рационом недокорм был менее вопиющим, нежели в дорогих частных интернатах, где руководство позволяло (и явно предполагало) покупку учениками дополнительной снеди. В некоторых заведениях буквально нельзя было наесться досыта, если самому себе регулярно не покупать яиц, сардин, сосисок и прочего – и если, разумеется, иметь на это деньги от родителей. Не знаю, как в школе Итона, но в Итонском колледже, к примеру, воспитанники после полуденной трапезы плотной еды уже не получали. Только чаепитие, а на убогий ужин иногда суп, иногда жареная рыба, чаще же просто хлеб с сыром и стакан воды. Съездив повидать в Итоне старшего сына, Самбо вернулся, полный снобистского экстаза от роскошного житья студентов: «У них на ужин жареная рыба! – захлебывался он, сияя щекастой физиономией. – Где в мире юношество может получить подобное?» Ха, жареная рыба! Стандартный ужин в беднейших рабочих семьях. Ситуация с кормлением в дешевых частных интернатах была, конечно, еще хуже. Из глубин очень ранней моей памяти всплывает картинка: за столом в приготовительной школе сидят ребята (наверное, дети лавочников или фермеров) и едят вареные потроха.
Пишущему о своем детстве следует остерегаться преувеличений и жалости к себе. Не утверждаю, что я был страдальцем, что Киприан был копией Дотбойс-Холла[10 - Отвратительно жестокая частная школа в романе Диккенса «Жизнь и приключения Николаса Никльби».]. Но я солгал бы, не сказав об отвращении, заметной долей присутствовавшем в моих чувствах. Многое в нашей несытной школьной жизни вспоминается с физической брезгливостью. Стоит, закрыв глаза, шепнуть себе «школа», и сразу передо мной плешь игрового поля с павильоном для крикета, сарайчик на стрельбище, продуваемые сквозняками дортуары, пыльные облупившиеся коридоры, асфальтовая площадка перед главным зданием и позади него молельня из грубых, занозистых сосновых досок. И почти отовсюду лезет какая-нибудь гадкая деталь. Например, кашу мы ели из оловянных мисок, под загнутыми краями которых всегда скапливалась и ленточками шелушилась засохшая овсянка. Сама каша содержала столько комков, волос и загадочных черных крупинок, словно эти ингредиенты входили в кулинарный рецепт. Без предварительного исследования приступать к поеданию овсянки было опасно. А гнусноватая вода в бассейне длиной футов пятнадцать – в нем по утрам плескалась вся школа, и сомневаюсь, что воду там меняли очень часто. А вечно влажные полотенца, пованивающие сыром, а редкие зимние визиты в местную баню, куда мутную морскую воду накачивали прямо с пляжа, возле кромки которого я как-то видел плавающее на волнах человеческое дерьмо. А запах пота в раздевалке возле не вычищенных от сальной грязи ванн, уступающих разве что шеренге обшарпанных туалетных кабинок с дверями без каких-либо задвижек, так что, едва сядешь, кто-нибудь к тебе непременно вломится. Нелегко мне вспомнить школьные годы без того, чтобы вмиг не шибануло чем-то противным и зловонным – смесью потных чулок, грязных полотенец, достаточно ощутимо веющего по коридорам запаха фекалий, вилок с окаменевшими, навек застрявшими между зубцов остатками жилистого бараньего рагу. И грохот дверей в уборных, и дребезжание дортуарных ночных горшков.
Это правда, что я существо не стадное, а такие стороны жизни, как клозет или сопливый носовой платок, особенно навязчивы, когда множество людей толчется на небольшом пространстве. Так же плохо в армии и еще хуже, без сомнения, в тюрьме. К тому же отрочество – возраст нетерпимости. Пока не научишься различать, не закалишься (процесс этот у человека, говорят, идет лет с семи до восемнадцати), все кажется, что ходишь по канату над выгребной ямой. Но вряд ли я сгущаю краски, вспоминая пренебрежение, с каким в школе относились к здоровью и гигиене, несмотря на о-го-го! по поводу свежего воздуха, холодных обливаний и спортивного тренажа. Обычным делом были многодневные запоры у школьников. Трудно ведь вдохновиться на очистку кишечника, если слабительным предлагается касторовое масло либо почти столь же ужасный лакричный порошок. Или вот бассейн. Нырять в него нам полагалось каждое утро, но некоторые из ребят увиливали чуть не по неделе, просто скрываясь, когда колокольчик звал купаться, или ловко таясь за спинами толпящихся у края бассейна, а затем смачивая волосы грязной водой с пола. Ребенок восьми-девяти лет не всегда будет держать себя в чистоте, если за ним не присматривать. Незадолго до моего окончания школы у нас появился новичок по фамилии Хэйзл, хорошенький мамочкин любимчик, и первое, что мне бросилось в глаза, – жемчужная белизна его зубов. К концу семестра эти жемчужины приобрели невероятный оттенок зелени. Видно, за все время никто не удосужился проследить, чистит ли мальчик зубы.
Но, конечно, разница между домом и школой была гораздо больше ощущений чисто физических. Удар, в первую же ночь нанесенный мне школьным каменным матрасом, сотряс чувства, ясно и грозно сообщив: «Вот где тебе теперь придется выживать!» Родной дом может быть весьма далек от совершенства, однако там все же правит любовь, а не страх, вынуждающий держаться в постоянном опасливом напряжении. В восемь лет тебя вдруг вытряхнули из теплого гнезда, швырнув в мир силы, лжи и тайны, как золотую рыбку в цистерну с щуками. Против издевательств любого рода у тебя никакого оружия. Единственный способ защиты – ябедничать, что за исключением нескольких четко установленных случаев непростительная подлость. А написать домой и попросить забрать тебя – вообще немыслимо, ибо это означало бы признать себя жалким и не имеющим успеха, а на это мальчишка пойти не может. Юные жители страны Едгин[11 - «Едгин» (в оригинале «Erewhon») – представляющее анаграмму слова «нигде» название сатирической утопии Сэмюэля Батлера. В фантастической стране Едгин, пародии на викторианскую Англию, преступно было оказаться больным или несчастным.] полагали несчастье позором, который надо всячески скрывать. Возможно, в школе было допустимо пожаловаться родителям на скверное питание, незаслуженную порку или иную жестокость со стороны учителей (но не товарищей!). Тот факт, что Самбо никогда не порол богатых учеников, свидетельствует о наличии подобных жалоб. Но в моих специфических обстоятельствах я ни за что не обратился бы к родителям. Задолго до того как я сообразил насчет льготного тарифа, мне было понятно, что отец с матерью чем-то обязаны директору, а стало быть, им невозможно меня от него защитить. Я уже говорил, что в Киприане у меня не было собственной крикетной биты по причине «твои родители не могут себе этого позволить». Однажды на каникулах благодаря брошенному вскользь замечанию выяснилось, что десять шиллингов для покупки биты мои родители директору дали. Тем не менее заветной биты я в школе не получил. И ни слова не сказал об этом дома и уж конечно не предъявил претензий Самбо. Как я мог? Я жил на его иждивении, и десять шиллингов были каплей в море моего неоплатного долга. Теперь я полагаю крайне маловероятным, что директор присвоил мои деньги, – наверняка просто запамятовал эту мелочь. Но я-то тогда счел, что сумма им присвоена и что он, коли захотелось, имел право так поступить.
Насколько трудна для детей личная независимость, демонстрирует наше поведение с Флип. Думаю, справедливо будет сказать, что каждый из воспитанников ее ненавидел и боялся. Однако все мы перед ней заискивали самым презренным образом, изощряясь в выражении какой-то страдательной преданности. Хотя школьная дисциплина зависела от нее больше, чем от Самбо, Флип даже не играла в неукоснительную справедливость. Она была откровенно капризна. Сегодня за некое деяние она назначит тебе порку, а завтра в связи с тем же преступлением лишь посмеется над детской шалостью или даже похвалит: «Каков храбрец!» Бывали дни, когда все холодели от ее словно глядевших из пещеры обвиняющих глаз, а то вдруг явится жеманной королевой в окружении придворных кавалеров, шутит, щедро рассыпает дары или обещания даров («выиграешь премию Харроу по истории, куплю тебе футляр для фотокамеры!»). Иной раз даже посадит любимцев в свой «Форд» и свозит их в городское кафе, где дозволит угоститься кофе с пирожными. Флип у меня в голове как-то сливалась с образом королевы Елизаветы, о чьих романах с Лестером, Эссексом и Рэйли я был оповещен уже в раннем возрасте. Самым популярным словом в разговорах о Флип у нас звучал «фавор» – «я сейчас в фаворе», «нынче я не в фаворе». За исключением горстки мальчиков, являвшихся или числившихся богачами, в постоянном фаворе никто не пребывал, но, с другой стороны, и самые последние изгои имели шанс время от времени там оказаться. Так, при том что мои воспоминания о Флип в основном неприязненны, помнятся долгие периоды, когда и я купался в лучах ее улыбок, когда она называла меня «старина» и по имени и разрешала брать книги из ее личной библиотеки, благодаря чему я впервые прочел «Ярмарку тщеславия»[12 - Роман У. Теккерея.]. Высшим уровнем фавора бывало приглашение служить у стола на воскресных ужинах Флип и Самбо. Тут, конечно, тебе светило, убирая посуду, поживиться остатками с тарелок, но прежде всего холуйское счастье вытянуться за стульями гостей и почтительно кидаться вперед, если гость чего-нибудь пожелает. Всякий, имевший возможность лебезить, лебезил, и от первой улыбки ненависть превращалась в раболепное обожание. Я всегда бывал чрезвычайно горд, когда мне удавалось заставить Флип рассмеяться. Я даже по ее велению писал дежурные шуточные стихи к знаменательным событиям школьной жизни.
Хочу прояснить и подчеркнуть – я не был бунтарем, только если силою обстоятельств. Я принял кодекс бытия. Настолько, что однажды, под конец моей учебы в Киприане, явился к Брауну с секретным донесением об эпизоде, подозрительно намекавшем на гомосексуализм. Насчет гомосексуализма я был весьма несведущ, но я знал, что эпизод произошел, что это плохо и что здесь именно та ситуация, в которой донести правильно. Одобрительное учительское «молодчина!» вогнало в жуткий стыд.
Перед Флип ты оказывался беспомощно податливым, как змея перед заклинателем змей. В ее довольно однообразной лексике имелся целый набор хвалебных и порицающих фраз, точно рассчитанных на определенную реакцию. «Вперед, парень!» – и шквал энтузиазма взмывал до небес. Или «не строй из себя дурачка!» (вариант: «как трогательно, правда?») – и полное ощущение себя дебилом. Или «не слишком-то это справедливо с твоей стороны, скажи?» – и к глазам подступали слезы. И все же, все же в глубине души таилась неизменная твоя сущность, знавшая правду о тебе – хихикал ты или хныкал, или трепетал от благодарности за скудную милость, единственным подлинным чувством была ненависть.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: