По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дипломатия Второй мировой войны глазами американского посла в СССР Джорджа Кеннана
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мы проходим по фабричному району, примыкающему к порту. Над фабричными трубами не видно дыма. Большие дома, служившие резиденциями фабрикантам, теперь стоят почти пустые, с темными окнами и заколоченными дверями. Только квартиры привратников кажутся обитаемыми, и в этом простом факте есть нечто символическое – будто все оставшееся население города переселилось в квартиры для привратников и слуг. Это отражение духа времени, когда люди должны вести относительно примитивный образ жизни среди руин, напоминающих о более высокой цивилизации. Только ли в войне и кризисе дело? Будет ли этот порт снова полон кораблей? Заработают ли фабрики, как работали прежде? Наполнятся ли вновь людьми дома и гостиницы? Будет ли снова запущен весь экономический механизм города? Или же эти здания, подобно уголкам средневековой Европы, превратятся в музеи для будущих поколений? Не будут ли они, как часто бывает в России, заселены людьми, для которых ценность и первоначальное предназначение этих зданий не имеют значения?
В узком трамвайном вагоне мы возвращаемся назад вдоль пустых улиц, мимо остановившихся фабрик. А вечером, когда поезд уже везет нас обратно в Ригу, мы снова встречаемся в вагоне второго класса с теми же двумя немцами, которые курят русские сигареты и стоят, сосредоточенно глядя в окна вагона, мокрые от дождя».
* * *
Русский отдел американской миссии в Риге, где я работал до осени 1933 года, представлял собой небольшой исследовательский центр, который получал и изучал основные советские периодические издания и другие публикации, чтобы составлять для правительства США доклады о положении в Советском Союзе, прежде всего – в советской экономике.
Советские власти тотчас заподозрили, что наше исследовательское бюро занималось шпионажем. Однако это было совершенно ошибочное заключение. Мы никогда не имели никаких секретных агентов и никогда не хотели их иметь. Опыт показывает, что научный анализ легальной информации, которым мы занимались, может дать больше сведений о любой стране, чем усилия секретной разведывательной службы. Конечно, последнее может хорошо дополнить первое, но никак не может его заменить. Мы не имели ничего общего со службой разведки, и нам доставляло большое удовольствие на основе фактов показывать нелепость мрачных сообщений об экономических условиях в России, получаемых различными западными правительствами от разведывательных служб и присылаемых к нам для комментариев.
Я сам занимался составлением докладов по экономике России и смог за это время приобрести немалые знания по советской экономике и экономической географии. В 1933 году на Западе было всего три места с более или менее налаженным изучением советской экономики помимо нашего отдела: Бюро исследований русской экономики в Бирмингемском университете, Институт экономики России и стран Восточной Европы в Кенигсберге и Институт русской экономики в Праге (так называемый «Экономический кабинет»), которым руководил известный русский эмигрант Сергей Прокопович. Общими усилиями мы могли создать хорошую базу данных, чтобы получить, насколько возможно, верную картину советской экономики. Эта работа мне нравилась, однако быт в те времена кризиса, сокращение жалованья и общее состояние неопределенности не приносили особенных положительных эмоций. Отвлечься от этого в свободные дни и вечера после работы мне помогало мое увлечение Чеховым. Я собирал тогда материалы для его биографии. Биографию Чехова я так и не написал, зато изучил все 30 томов его сочинений. Это очень хорошее средство, чтобы получить представление о жизни дореволюционной России, и особое значение это имело в атмосфере Риги, где российская дореволюционная жизнь в какой-то мере еще сохранилась.
В целом же период моей службы в Риге можно расценить как завершение моего обучения. У меня тогда не было сколько-нибудь ответственных самостоятельных заданий, и я не имел отношения к реальной политике. Но в конце этого рижского периода я непосредственно столкнулся с американским политическим процессом. Понимая, что вопрос о «признании» советского правительства будет вскоре рассмотрен новой администрацией, я несколько недель изучал торговые соглашения, заключенные советским правительством с другими странами за последние годы. Меня прежде всего интересовало, в какой мере эти договоры реально защищают интересы других стран. Свой доклад на эту тему я отослал в Вашингтон в апреле 1933 года, чтобы привлечь внимание к двум примерам, когда формулировки соглашений, заключенных советскими властями, могли привести к тому, что интересы иностранцев в России совсем не будут защищены.
В одном случае речь шла о положениях советско-германского договора от 12 октября 1925 года, касавшихся ареста или задержания немецких граждан в СССР. Согласно соответствующему положению этого договора, в случае ареста немецкого гражданина немецкие власти получали уведомление об этом не позднее чем через неделю, и арестованный имел право на неотложное свидание с работником немецкой консульской службы. В докладе, отосланном в Вашингтон, я указал, что эта формулировка в действительности не обеспечивает должной защиты прав немецких граждан в России. Там отсутствовало важное положение о том, что консул должен встречаться с арестованным наедине, в условиях, обеспечивающих конфиденциальность. Напротив, в соответствующей статье говорилось, что подобные встречи с консулом проходят только в присутствии советских сотрудников правоохранительных органов. Это создает зависимость заключенного от властей, которые могут заставить его говорить в беседе с консулом только то, что их устраивает. Особенно неадекватность этих формулировок советско-германского договора была очевидна на примере «Шахтинского дела» 1928 года. Тогда часть немецких инженеров, работавших в Донбассе, обвинили во вредительстве, а представители Германии не могли эффективно защищать обвиняемых, так как указанный договор не создавал для этого правовой базы.
Второй приведенный мною пример касался советско-германских переговоров в 1928 году, уже после «Шахтинского дела», которые должны были прояснить некоторые недоразумения, связанные с пониманием договора 1935 года. Тогда советскую делегацию попросили разъяснить, как она понимает экономический шпионаж, после чего было сделано следующее разъяснение:
«Распространенное мнение, будто получение экономической информации о Союзе Советских Социалистических Республик разрешается лишь постольку, поскольку такая информация публикуется в газетах и журналах, ошибочно. Право получения экономической информации в СССР, так же как и в других странах, ограничено только в случаях, составляющих коммерческую и промышленную тайну, или в случаях применения запрещенных методов получения такой информации (подкуп, кража, мошенничество и т. п.). В категорию коммерческих и промышленных тайн, естественно, входят общегосударственные экономические планы, поскольку они не являются опубликованными, но не сообщения, касающиеся экономических условий по отдельным предприятиям.
Союз Советских Социалистических Республик не имеет оснований создавать препятствия критической оценке своей экономической системы. Отсюда следует, что каждый имеет право обсуждать экономические вопросы и получать экономическую информацию, кроме той, которая, на основе специальных указаний ответственных лиц или на основании соответствующего статуса предприятий, не может быть сообщена иностранцам».[9 - Международные отношения США. Советский Союз, 1933–1939. С. 34–35.]
Обратив внимание Вашингтона на формулировку указанного положения, я дал понять, что оно не гарантирует защиту от преследований иностранных граждан по обвинению в экономическом шпионаже. Я писал, что «в действительности иностранцы имеют очень ограниченные возможности получения экономической информации в России. Неопубликованная информация по общегосударственным экономическим планам, не предназначенная для иностранцев, может касаться большинства аспектов экономической жизни России. А на основании „указаний ответственных лиц или на основании соответствующего статуса предприятий“ часто многие простые и важные экономические данные не могут быть получены иностранными гражданами. Ограниченное знакомство с советской экономической прессой показывает, что в эту категорию могут попасть данные о сборе зерновых, о добыче золота и т. п. Отсюда сбор и получение подобного рода информации в России уже могут быть квалифицированы как экономический шпионаж».[10 - Национальный архив Госдепартамента США. Дело 6610031/30. С. 48–49.]
Представьте себе мое удивление, когда после завершения переговоров с участием Литвинова в Вашингтоне в ноябре 1933 года я раскрыл газету и среди заявлений, подписанных Литвиновым в качестве предварительного условия американского признания, я нашел оба вышеприведенных спорных положения в неизменном виде. Очевидно, президент Рузвельт, которому Госдепартамент сообщил, что советское правительство уже подписывало документы с подобными формулировками, просто счел их убедительными и потребовал, чтобы Литвинов подписал новый документ с такими же положениями в качестве гарантий наших интересов. Я так и не узнал, или не был президент осведомлен, что на эти положения обратило внимание руководство США, как на не обеспечивающие интересы других стран, имеющих отношения с СССР, или же он был осведомлен об этом, но не обратил на это внимания, сочтя, что для не склонной к критическому анализу публики, в том числе для конгрессменов, указанных положений будет вполне достаточно. У общественности создалось впечатление, что американские дипломаты проявили в переговорах с Литвиновым достаточную бдительность и профессионализм.
Таким образом я получил урок, касающийся одной из характерных черт американских государственных деятелей, – их тенденции делать заявления и совершать те или иные акции, исходя не из последствий для международных дел (чего следовало ожидать), а из реакции на них американского общественного мнения и в особенности – конгресса. Политиков интересует, выглядят ли они внутри страны достаточно профессиональными и отстаивающими национальные интересы, пусть их действия и не приносят особой пользы этим интересам.
Подобно вели себя в некоторых ситуациях многие американские государственные деятели. Так поступил Джон Хэй в инциденте с «политикой открытых дверей». Так же во многих случаях поступали Франклин Рузвельт (эта характеристика Рузвельта, конечно, остается на совести автора) и Гарри Трумэн, выступивший с универсальной и претенциозной патриотической самоидеализацией – доктриной Трумэна. Даллес поступил так же, когда говорил об «освобождении» и «массированном возмездии», хотя не намеревался проводить все это на практике. Такие примеры можно было бы продолжать до бесконечности. Однако я понимаю, что каждый руководитель вынужден идти на те или иные компромиссы, чтобы в конце концов проводить ту или иную внешнюю политику (лучше всего понимал подобные вещи Рузвельт). Но подобная тенденция существует и делает тщетными многие усилия американских государственных деятелей.
Пока американское общество и пресса не перестанут вести себя подобным образом, наша страна не будет иметь по-настоящему зрелой и эффективной внешней политики, достойной великой державы.
Возвращаясь к смыслу заверений Литвинова, я могу заметить: к счастью, политические интересы советских лидеров в тот период не предполагали каких-то преследований американских граждан в России. Настоящие американцы, приезжавшие в Россию на легальных неидеологических основаниях, как туризм или работа по контракту, редко (если вообще) сталкивались с этим. Гораздо больше советское руководство интересовали лица, родившиеся в России и претендовавшие на двойное гражданство, а также лица, как-то связанные с коммунистическим движением. В период чисток американскому коммунисту, прибывшему в Россию по партийным делам, угрожала большая опасность, чем обычному буржуа, никогда не проявлявшему симпатий к советской власти. Но если бы этого потребовали интересы советских лидеров, то самый невинный американский турист или специалист мог бы стать жертвой ареста или преследований в той или иной форме, а заявления не помешали бы этому, поскольку не давали американским властям юридических оснований вмешиваться в подобные дела.
Вообще, во всем, что касалось судьбы иностранцев в России, советские власти брали на себя обязательства делать только то, что они и так бы делали в собственных интересах, даже если бы не существовало договоров. Кроме того, ГПУ, как тогда называлась советская секретная служба, жило по своим законам, и российский МИД был бессилен на него повлиять, даже если бы захотел. Для представителей других стран в Москве существовали как бы две власти, причем апеллировать можно было только к тем, кто ничего не решал. Таким образом, эффективные средства защиты иностранных граждан в России отсутствовали, кроме разве политического вмешательства на высшем уровне.
Три предыдущие республиканские администрации США воздерживались от признания советского правительства прежде всего по двум важным причинам. Во-первых, советское правительство, если не по государственным, то по партийным каналам, поддерживало революционную деятельность в разных странах, в том числе в США; во-вторых, оно не хотело ни уважать финансовых обязательств предыдущих русских правительств, ни возмещать убытки американским фирмам и гражданам за потерю собственности, национализированной в ходе революции. Незадолго до визита Литвинова в Вашингтон глава американской дипломатической миссии Роберт Скиннер попросил нас, сотрудников русского отдела в Риге, сформулировать свои мнения относительно признания Советской России. Я заявил, что, по моему убеждению, русские не пойдут на уступки ни в одном из указанных принципиальных вопросов, ни для того, чтобы заслужить признание, ни в виде ответной реакции на него. Думаю, что так же ответило большинство моих коллег.
Хотя наши мнения должны были изучить в Вашингтоне, у меня нет оснований для уверенности, что с ними ознакомился Рузвельт или что он обратил бы на них внимание, если бы ознакомился. Они не решали стоявшей перед ним политической проблемы. Оба этих вопроса вызывали его интерес не сами по себе (и я думаю, он был прав в отношении долгов и претензий), а постольку, поскольку они интересовали американское общественное мнение и влиятельные группы населения. Для него было главное создать впечатление заботы об этих вопросах, а не на самом деле заботиться об их решении. Он дорожил восстановлением взаимоотношений с Советским Союзом ради отрезвления немецких нацистов и японских милитаристов.
Я не знаю, насколько верны были расчеты президента. Что касается меня, то я был настроен скептически. Никогда, ни в то время, ни позднее, я не считал Советский Союз подходящим реальным или потенциальным союзником для нашей страны. Особенно опасной казалась мне идея опереться на советскую мощь, вместо того чтобы развивать или мобилизовать наши собственные ресурсы.
Глава 3
МОСКВА И ВАШИНГТОН В 1930-Х ГОДАХ
Годы, последовавшие за установлением дипломатических отношений между США и Советским Союзом, я провел по большей части в России. Подобно рижскому и берлинскому периоду моей службы это были в первую очередь годы обучения и получения опыта.
В момент объявления о признании Соединенными Штатами Советского Союза я находился в отпуске в Вашингтоне. К этому событию я не имел почти никакого отношения, если не считать небольшого участия в подготовке докладов для участников переговоров с американской стороны. Но дня через два после окончания переговоров один из друзей представил меня Уильяму Баллиту, в то время – советнику президента в области отношений с Россией, впоследствии ставшему первым нашим послом в Советском Союзе. Узнав, что я говорю по-русски, Баллит проявил ко мне интерес и задал ряд вопросов, касающихся советской экономики. Когда он отправился в Москву для того, чтобы формально приступить к своим обязанностям и выбрать здание для будущего посольства, он взял меня с собой в качестве помощника и переводчика. Вместе с другим американским дипломатом, мистером Флэком, я ассистировал ему во время исторического вручения Калинину верительных грамот. Когда же он через несколько дней вернулся в США, чтобы набрать штат посольства, то оставил меня в Москве в качестве своего неофициального представителя для поддержания связей с советскими властями и выполнения некоторых хозяйственных функций. Таким образом, я стал первым американским дипломатом, регулярно жившим в Москве со времен отъезда оттуда нашего бывшего генерального консула Деуитта Пулла.
В ту зиму я жил в гостинице «Националь» по соседству с будущим зданием нашего посольства. Ко мне приехала жена. Кроме того, с нами работал секретарь – мужчина, живший в той же гостинице. В буфете «Националя» я случайно познакомился с молодым американцем Чарльзом Тэйером, который впоследствии также стал дипломатом и автором довольно живого описания будней нашего посольства в тот период. В то время он был туристом. Мне не хватало людей для работы, и я уговорил его устроиться к нам на должность рассыльного. Так мы, все четверо, и составляли фактически весь штат американского посольства в Москве. У нас не было ни специального помещения, ни оборудования, а для связи с американским правительством мы пользовались обычным телеграфным отделением. И все же, при отсутствии всякой бюрократии, нам за несколько недель удалось сделать больше, чем всему штату посольства, прибывшему в Москву, за первый год его существования.
Сейчас я даже с удовольствием вспоминаю тот первый период работы в Москве. Сильные московские морозы оказывали на нас бодрящее действие. Помню, что тогда мне было достаточно поспать четыре-пять часов и чувствовать себя работоспособным. Гостиница наша стояла в самом центре, а старая Москва тогда еще в значительной мере сохранила свой облик. Люди ездили по городу на немногочисленных трамваях и троллейбусах, а строительство московского метро только начиналось. На улицах, примыкающих к «Националю», мы часто встречали молодых добровольцев-метростроевцев, парней и девушек, в грязной строительной спецодежде. Москва оставалась тогда многолюдным, но уютным и живописным городом, жить в котором, с нашей точки зрения, было скорее приятно. Американские журналисты, такие, например, как Уолтер Дюранти, Билл Стокнмэн, Уильям Чемберлен, приглашали нас на свои веселые вечеринки, посещаемые тогда и русскими. Я сохранил приятные воспоминания о том времени, ставшем примером того, какими могли бы быть советско-американские отношения при других обстоятельствах.
Когда штат американского посольства прибыл в Москву в марте 1934 года, меня назначили одним из секретарей, и я оставался на этой службе до лета 1937 года, за исключением пребывания в течение нескольких месяцев в Вене, где я лечился в 1935 году. За это время, помимо Чарли Тэйера, я приобрел много хороших друзей. Мы, американцы, завели друзей также среди дипломатов в других миссиях, прежде всего в посольствах Германии, Франции и Италии. Вообще воспоминания о друзьях играют главную роль в моем отношении к этому периоду своей жизни. Общение с ними многому научило меня. Как некогда в Риге, мы часто проводили время в оживленных и жарких дискуссиях, посвященных проблеме русского коммунизма. Споры наши носили вполне дружеский, но при этом и острый характер. Они во многом способствовали развитию моих представлений об этом явлении, тем более что все эти проблемы имели прямое отношение к нашей работе. Я хотел бы поблагодарить за это многих людей, но особенно надо выделить двоих.
Один из них – Лой Хендерсон, первый секретарь нашего посольства в 1934–1938 годах – человек большого ума и прекрасный профессионал, который не только отлично выполнял свои обязанности, но и очень хорошо ориентировался в политических проблемах, связанных с советским коммунизмом, и умел их решать.
Другой дипломат, заслуживающий особого упоминания, – Чарльз Болен, известный впоследствии как советник Рузвельта во время войны и американский посол в СССР и во Франции. Мы с ним оба были в числе первых специалистов, подготовленных к работе в России, и оба долгое время работали в ней. Николай Бухарин как-то (кажется, на суде) заметил, что интеллектуальная дружба создает особенно прочные связи между людьми.[11 - Действительно, это было сказано в речи Бухарина на процессе право-троцкистского блока.] Не знаю, верно ли это в целом. Можно сказать, что это было верно в том, что касалось Бухарина. Надо отметить, что нас с Боленом, с самого начала нашей работы в Москве, связывала интеллектуальная дружба. Это был человек очень одаренный от природы, настоящий генератор идей, для которого всегда особый интерес представляли проблемы, связанные с русским коммунизмом, и все, что в то время происходило в России. Ко мне он всегда относился с дружеским расположением и особой заботой, даже немного покровительственно. Мы с ним провели немало времени в спорах, принимавших иногда настолько резкий характер, что у окружающих могло возникнуть впечатление, будто мы ссорились. Однако этот человек помог мне избавиться от многих заблуждений, и ему я прежде всего обязан своим пониманием концепции наших взаимоотношений с Советской Россией. Мы с ним духовно породнились, и эта дружба из всех моих дружеских связей имела для меня наибольшее значение.
К сожалению, в штате сотрудников посольства, которых собрал Баллит, недоставало квалифицированного администратора и хозяйственника, а потому у нас в тот период было еще много организационных трудностей. В первые месяцы нас поселили на двух верхних этажах здания, именовавшегося тогда отелем «Савой», в районе Кузнецкого моста. Резиденция посла, находившаяся в двух с половиной милях от посольства, была тогда еще не обустроена. Своего транспорта мы еще не имели, и нам приходилось (хотя это было недешево) пользоваться «линкольнами», предоставленными «Интуристом». Однако и они часто не требовались, поскольку мы работали без диспетчеров и должной системы связи. В резиденции посла не было своего телефонного узла, а имелись лишь два аппарата, напрямую связанных с городом и беспрерывно звонивших. В «Савое» положение с телефонами было еще хуже, а ресторан предназначался скорее для нужд помещиков прежних времен, проводивших часы за едой, а не для современного посольства, где людям нужно перекусить на скорую руку. Я упомянул далеко не обо всех трудностях такого рода, с которыми нам приходилось сталкиваться. И все же у нас было хорошее рабочее настроение, да и политическая атмосфера в России в то время была более спокойной и дружественной, чем в два последующих десятилетия.
Зимой 1934/35 года мы переехали в постоянную резиденцию на Моховой, рядом с гостиницей «Националь». Период технических трудностей закончился, и мы перешли к нашей обычной дипломатической работе. Но в это же самое время произошли драматические события, знаменовавшие новый поворот в судьбах современной России. 1 декабря в Ленинграде был убит Киров.
Сергей Киров, глава ленинградской парторганизации – один из самых влиятельных партийных лидеров, – считался возможным преемником Сталина. Сейчас мы имеем большие основания полагать, что осенью 1934 года в руководстве партии произошел серьезный кризис, связанный со стремлением Сталина организовать судебное преследование тех коммунистических лидеров, которые выступали оппозиционно по отношению к нему в период его борьбы за власть в предшествующие годы. Вероятно, Кирова, хотя он открыто не выступал против Сталина, многие в партии считали способным противостоять последнему, так что Киров мог стать надеждой тех, кто опасался террора как средства решения политических противоречий. Кроме того, его убили накануне предполагаемого перевода в Москву (хотя Сталин долго противился такому переводу). Этот перевод укрепил бы позиции Кирова в руководстве партии. Известно, что ленинградские органы безопасности имели какое-то отношение к этому убийству (по крайней мере, к убийце.[12 - Именно в этом было официально обвинено руководство НКВД в 1938 г.] К тому же было много разговоров (основанных на намеках в «секретном докладе» Н.С. Хрущева на XX съезде), будто сам Сталин имел какое-то отношение к этому делу.
Как бы там ни было, убийство Кирова явилось отправной точкой для больших чисток 1930-х годов. С этого времени и атмосфера дипломатической работы в Москве изменилась в худшую сторону. «Медовый месяц» советско-американских отношений в Москве завершился.
Через три дня после убийства Кирова я серьезно заболел, и в январе 1935 года меня отправили лечиться в Вену, где я оставался до ноября того же года. Пролечившись два месяца в госпитале, я смог приступить к работе в нашей венской миссии под началом нашего посланника в Вене Джорджа Мессершмитта. Я уже служил вместе с ним в Берлине и хорошо его знал. Он считался сторонником жесткой дисциплины, но ко мне относился скорее снисходительно. Еще в Берлине я восхищался его мужеством и умением находить решения в трудных ситуациях. Сейчас, как в Берлине, так и в Вене, он использовал свою волю и целеустремленность, чтобы противостоять нацистам, которых ненавидел от всей души.
Я могу смело утверждать, что этот человек, сухой и насмешливый, но всегда проявлявший принципиальность в отстаивании своих убеждений, оказал на меня огромное влияние.
По возвращении из Вены в 1935 году я продолжил дипломатическую службу в Москве. Работа моя тогда заключалась в основном в составлении аналитических докладов о политическом положении. Она опять-таки имела для меня познавательное значение, поскольку оперативной работы в то время было мало. В мои обязанности входило следить за ходом политических чисток в Москве, исходя из данных советской прессы и слухов, распространявшихся в столице. Не меньшее значение, чем анализ политической обстановки, для меня имела и первая реальная возможность знакомства с самой Россией, ее культурой, бытом, жизнью обычных людей.
Могут спросить, как же я, будучи иностранным дипломатом в России в период сталинских чисток, вообще мог получать такого рода впечатления, несмотря на все те меры, которые советский режим принимал, чтобы изолировать от населения иностранцев, а особенно дипломатов. Но эти меры достигли своей цели только отчасти. Контакты между нами и советскими гражданами, основанные на взаимном интересе и симпатиях, продолжали существовать (хотя для этого, конечно, требовалась известная изобретательность и осторожность). Пообщаться с простыми русскими людьми можно было в театрах, во время спортивных соревнований и иных общественных мероприятий. Кроме того, была также возможность путешествий в Петербург, на юг, на Кавказ. Я продолжал интересоваться Чеховым и бывал в местах, где жил этот писатель, а также посещал и сельскую местность, чтобы посмотреть, в каком состоянии были красивые средневековые русские церкви. Многие из них тогда стояли разрушенные, и мало кого в столице интересовался самим их существованием. Следует заметить, что я действительно интересовался всем этим, отправлялся в дорогу не ради каких-то иных целей и совершал бы мои путешествия, даже если бы при этом не получил множества впечатлений о жизни людей. Однако таких впечатлений у меня было множество.
Когда я оглядываюсь на Москву 1930-х годов, то думаю, что знание и понимание новой России, которая перенесла испытания, связанные с коллективизацией и индустриализацией, а теперь переживала период чисток, давались мне ценой большого труда. Самый большой недостаток в этом смысле, как я теперь вижу, – слабое знание истории русского революционного движения. К сожалению, в то время еще невозможно было воспользоваться прекрасными трудами Э. Картап, Леонарда Шапиро, Исаака Дойчера, Франко Вентури. К этому следует добавить, что я никогда не питал симпатий к советской власти, и неприязнь к сталинскому режиму не явилась следствием разочарования в прежних иллюзиях. В отличие от многих профессиональных аналитиков советской истории я сам не прошел через «марксистский период». Может быть, как я иногда думаю, было бы лучше, если бы такой период у меня был – ведь именно таким путем формировались лучшие исследователи советского опыта.
Возможно, дело еще в том, что я всегда чувствовал глубокую неприязнь к русскому марксизму. Я не могу принять бессердечного фанатизма тех, кто считает, что можно преследовать или «ликвидировать как класс» большое число людей – буржуазию и значительную часть крестьянства – просто потому, что эти люди родились с определенной классовой принадлежностью. Эта жестокая классовая вражда кажется мне лишь отражением тех феодальных институтов, которые Россия недавно отвергла. Тогда тоже преследовали людей по критерию рождения, независимо от индивидуальной вины. Я не вижу смысла в преследовании человека и членов его семьи на том лишь основании, что они родились буржуа, нежели на том основании, что они родились крепостными или евреями. Не мог я также не заметить, что многие люди, вставшие во главе этих преследований, сами не были пролетариями по происхождению. Если исходить из того, что добродетелью является тяжкий физический труд, то большинство русской коммунистической интеллигенции следовало бы отнести к буржуазии, подлежащей преследованиям. Многие стороны советской жизни вызывали у меня уважение и восхищение, но я всегда отвергал эту идеологию в целом. Если я уважал советских лидеров за мужество, решительность, политическую серьезность, то мне всегда были глубоко неприятны другие их политические характеристики – фанатичная ненависть к значительной части человечества, чрезмерная жестокость, уверенность в своей непогрешимости, неразборчивость в средствах, излишнюю любовь к секретности, властолюбие, скрывающееся за идеологическими установками.
Поэтому я не имел иллюзий, еще даже до того, как встретился с феноменом сталинизма в его апогее в 1930-х годах, когда огромная нация оказалась беззащитной перед невероятной хитростью человека, во многих отношениях выдающегося, но безжалостно жестокого и циничного. Из-за этих моих политических взглядов, сформировавшихся в тот период, у меня возникли разногласия с официальными установками Вашингтона, по крайней мере, на ближайшее десятилетие.
* * *
Не ограничиваясь ретроспективным взглядом на свою работу в Москве в 1933–1937 годах, я хотел бы сослаться также на некоторые документы, относящиеся к тому времени. Я счел, что только два из них представляют интерес. Первый доклад относится к 1936-му или 1937 году. Я совершенно не помню, с какой целью он был написан. Я уверен, что он никогда не публиковался. Этот документ находится в моей папке «Проблема войны и Советский Союз».
Я писал тогда о постоянной враждебности советского режима к некоммунистическим правительствам, которых он рассматривает как врагов, а на мирные отношения с ними смотрит только как на временное перемирие или «мирную передышку» в перерыве между конфликтами. Я писал о советском плане милитаризации, частью которого были и коллективизация, и пятилетние планы. Я утверждал, что советское правительство хочет лишь отсрочить враждебные действия до того времени, когда их военные приготовления будут завершены. Я писал, что именно поэтому Сталин заключает договоры с разными странами и готов признать обязательства, связанные с участием в Лиге Наций, но это делается не столько ради предотвращения новой мировой войны, сколько для того, чтобы войну вели другие, чтобы не было прочного мира между западноевропейскими державами. Признавая серьезность японской угрозы советскому Дальнему Востоку, я отмечал, что и сама советская политика в Азии способствовала появлению этой угрозы.[13 - Традиционная вековая экспансия Японии в Азии существовала задолго до появления Советского Союза и независимо от политики царской России; в XIX в. она совпала с экспансией в Азии западных держав.]
Более скептически я оценивал реальность нацистской угрозы советским интересам. Я не отрицал, что нацизм угрожает другим странам, но рассматривал политику Гитлера как «пангерманистскую по преимуществу», с претензией на распространение власти рейха только на территории, прежде населенные или контролируемые немцами. Я писал, что это может относиться к соседним с Россией государствам, но не к России в границах 1936 года, хотя, полагал я, Гитлер может предложить Польше Украину в виде компенсации за потерянные западные земли. Но эти опасности я не считал реальными в ближайшее время и квалифицировал настойчивость, с которой русские твердят об этих опасностях, как свидетельство того, что они не вполне искренни, а их дипломатия может скорее обострить, чем смягчить эту ситуацию. По моей тогдашней формулировке, трудно предположить, что русскому правительству, занимающемуся прежде всего собственными делами, «в ближайшее время едва ли может угрожать опасность агрессии с Запада».
Вместе с тем мне казалось маловероятным, чтобы Советский Союз вовсе не подвергся ничьей агрессии. Как я отметил тогда, «социальный фанатизм и шовинизм, циничная политика балансирования на грани войны в отношениях с соседями могут отсрочить войну, но не помогут ее избежать». Я был уверен, что в случае начала войны, когда ее участники ослабят друг друга, Россия едва ли удержится от вмешательства, «скорее всего, в качестве хищника».
Сейчас очевидна слабость этого анализа. Я, конечно, недооценил возможность агрессии нацистов против России, хотя на окончательное решение Гитлера о нападении на нее повлияло упорство советской дипломатии в отношении Болгарии и Финляндии (что проявилось во время переговоров с Молотовым в 1940 году), а также и огромная численность армии, которую Сталин сосредоточил на западной границе. Гитлер не решился смириться с подобной концентрацией войск на своем фланге, когда не смог вторгнуться на Британские острова, и ему пришлось перенести атаку на английские позиции в Средиземноморье.
В этом докладе я также не предвидел, что СССР может подвергнуться прямому нападению. Но мое предположение, что Сталин постарается извлечь выгоду из войны между другими странами, подтвердилось в случае с финской войной 1939–1941 годов, а также тем, что он организовал агрессию против Болгарии и Японии в последнюю минуту перед крахом этих держав.[14 - Известно, что руководство СССР пошло на войну с Японией прежде всего по настоятельным просьбам союзников, в первую очередь – американцев.] Можно только догадываться, сколько подобных акций было бы предпринято, если бы Советская армия (как рассчитывал Сталин) оставалась вне большой войны.
Я не проявлял энтузиазма ни в том, что касалось развития советско-американских отношений, ни в отношении советской политики в целом. В 1936 году я подготовил аналитический материал по этой проблеме. Тогда я пытался заглянуть в будущее и оценить возможную перспективу двусторонних российско-американских отношений. Текста этого у меня нет. Сохранилось лишь резюме, составленное мною же в 1938 году, которое я кратко процитирую.
«В экономической сфере следует учитывать сходство географического положения обеих стран и то обстоятельство, что они во многих отношениях будут скорее соперничать, чем дополнять друг друга. Следует также учесть дух соперничества и ненадежность, свойственную политике русских лидеров, отличающихся подозрительностью, бюрократизмом и приверженностью к восточным приемам в своей деятельности. В культурном плане нужно учитывать не только стремление к взаимопониманию народов двух стран и безусловную ценность их потенциала друг для друга, но также свойственное российским правителям стремление не допустить иностранного влияния на свой народ. В политическом плане нужно учитывать исторические традиции России, коварство и подозрительность части ее правителей, продолжительный контакт с азиатскими ордами, влияние Византии, взаимосвязь климата, характера и географического положения страны, не располагающих к организации нормального административного контроля и национальной солидарности.





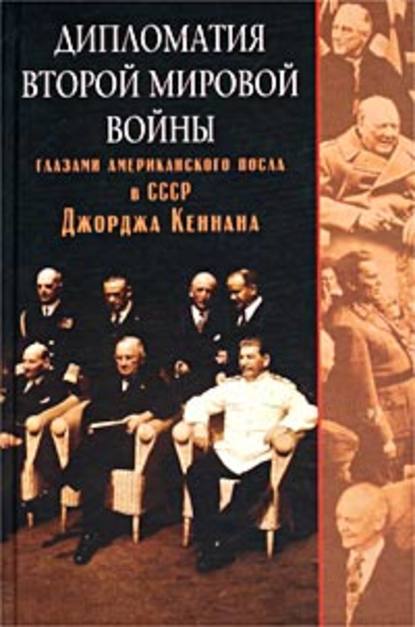
![Кочевая жизнь в Сибири (Tent life). [1864-1867]: Приключения среди коряков и других инородцев: Пер. с англ.](/covers_185/523985.jpg)