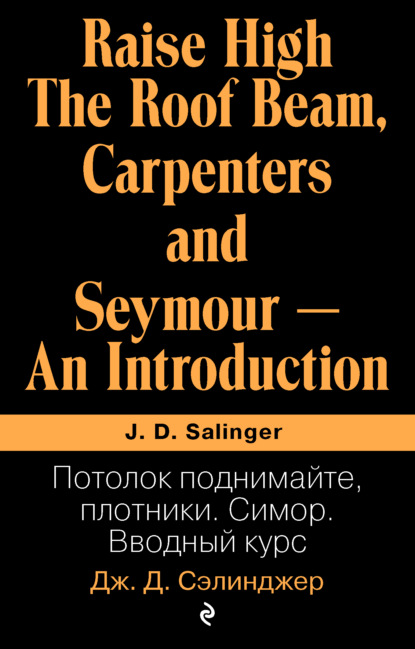По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Потолок поднимайте, плотники; Симор. Вводный курс
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2021
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не имею четкого представления, как прошли следующие час с четвертью, если не считать того факта, что к «Лоэнгрину» никто не приступил. Помню довольно рассредоточенную стайку незнакомых лиц, которые украдкой то и дело оборачивались поглядеть, кто же это кашляет. И помню, как женщина справа обратилась ко мне еще раз – тем же довольно праздничным шепотом.
– Наверняка что-то задерживается, – сказала она. – Вы судью Рэнкера видели вообще? У него лицо как у святого.
И помню, органная музыка на странный манер, едва ли не отчаянно в какой-то миг металась от Баха к ранним Роджерсу и Харту[10 - Композитор Ричард Роджерс (1902–1979) и поэт Лоренц Харт (1895–1943) – один из самых знаменитых творческих союзов в американской популярной культуре, авторы более 30 мюзиклов.]. Хотя в целом, боюсь, я проводил время, посиживая у собственного больничного одра и сочувствуя тому, как вынужден давить в себе кашель. Все время, пока я там сидел, меня не покидал тягучий мандраж: вот у меня сейчас откроется кровотечение или, на худой конец, треснет ребро, несмотря на корсет из клейкой ленты.
В двадцать минут пятого – или, если взглянуть на вещи прямее, через час двадцать после того, как все разумные надежды улетучились, – незамужняя невеста, опустив голову, с родителями по бокам, была выведена из здания и хрупко сопровождена по длинному лестничному маршу к тротуару. После чего ее поместили – едва ли, кажется, не затолкали – в первый же зализанный черный наемный автомобиль, что вторым рядом дожидался у обочины. То был до крайности наглядный миг – в самый раз для бульварной прессы – и, как все подобные бульварные мгновенья, дополнялся полным комплектом зевак, поскольку свадебные гости (и я в их числе) уже вываливали из здания – весьма пристойно, однако встревоженными, не сказать – пучеглазыми роями. Если у зрелища имелся хоть сколько-нибудь смягчающий аспект, за него несла ответственность сама погода. Июньское солнце так жарило и сияло, возводило такой барьер фотовспышек, что образ невесты, пока она едва ль не изможденно ковыляла по ступенькам, скорее смазывался там, где кляксы были уместнее всего.
Едва машина невесты удалилась с места действия по крайней мере физически, напряжение на тротуаре – особенно возле жерла полотняного навеса, на обочине, где ошивался, например, я, – выродилось в то смятение, которое, будь здание церковью, а день воскресеньем[11 - На самом деле 4 июня 1942 г. был четверг. В этот день началась битва за о. Мидуэй – одно из важнейших сражений Второй мировой войны на Тихом океане, закончившееся уничтожением большей части японского флота.], можно было бы принять за вполне обычное рассредоточение паствы. Затем очень как-то вдруг с нажимом разнеслось – вроде бы от невестиного дяди Эла, – что гостям надо воспользоваться машинами у обочины; то есть все равно, будет банкет, не будет банкета, поменялись планы или не поменялись. Если возможно судить по реакции тех, кто меня окружал, предложение, в общем, восприняли как некий beau geste[12 - Красивый жест (фр.).]. Однако не само собой разумелось, что «воспользоваться» машинами следовало лишь после того, как потребные транспортные средства разберет, дабы тоже покинуть место действия, солидный с виду отряд, определяемый как «ближайшие родственники» невесты. И после отчасти загадочного промедления, смахивавшего на затор (я при этом оставался на странный манер пригвожден к месту), «ближайшие родственники» действительно начали свой исход – аж по шесть-семь человек на машину, либо всего по трое-четверо. Число это, насколько я понимал, зависело от возраста, манер и ширины бедер первого, кто занимал место.
Ни с того ни с сего после чьего-то прощального предложения – отчетливого приказа – я понял, что стою на самой обочине непосредственно в жерле полотняного навеса и помогаю людям садиться в машины.
Каким образом я оказался выделен для несения этого наряда, заслуживает не очень глубоких умопостроений. Насколько мне известно, неопределенный активист средних лет, избравший меня для наряда, и отдаленнейшего понятия не имел, что я – брат жениха. Следовательно, представляется логичным, что выбрали меня по иным, куда менее поэтичным причинам. На дворе 1942 год. Мне двадцать три, и я только что призван в армию. Сдается, сам возраст мой, обмундирование и безошибочно исправная тускло-оливковая аура, витавшая надо мной, не оставляли сомнений в том, кому здесь работать швейцаром.
Мне было не только двадцать три года – года мои являли приметную задержку в развитии. Помню, я сажал людей в машины совершенно неквалифицированно. Напротив, занимался я этим с неким хитроумным курсантским подобием целеустремленности либо преданности долгу. Всего через несколько минут я осознал, что обслуживаю нужды преимущественно старшего, более низкорослого и мясистого поколения, и мои обязанности рукоподавателя и двереотрывальщика приняли еще более липово властный оттенок. Я начал вести себя как крайне проворный, целиком и полностью располагающий к себе молоденький гигант с кашлем.
Но дневная жара, если выразиться очень мягко, угнетала, а вознаграждение за мою службу, надо полагать, выглядело все более символическим. Хотя толпа «ближайших родственников» вроде бы почти не поредела, я внезапно сам ринулся в какой-то недозагруженный автомобиль, как только он стал отъезжать от обочины. При этом я крайне звучно (видать, в наказание) треснулся головой о крышу. Среди пассажиров оказалась не кто иная, как моя знакомая шепталка Хелен Силзбёрн – и она тут же кинулась мне безусловно сочувствовать. Удар, очевидно, прозвучал на весь салон. Но в двадцать три года я относился к той разновидности юношества, коя на всякое увечье, нанесенное их персонам, исключая разве что проломленный череп, реагирует гулким хохотом явно недоразвитых.
Машина тронулась на запад – прямо, так сказать, в открытую духовку заката. И двигалась на запад два квартала, пока не достигла Мэдисон-авеню, где резко свернула вправо. Мне мстилось, что всех нас от кошмарной жаровой трубы солнца спасают лишь невообразимая сметка и умения нашего безымянного водителя.
Первые четыре или пять кварталов к северу по Мэдисон беседа в машине главным образом сводилась к замечаниям вроде «Я вас не стесняю?» и «Первый раз в жизни такая жара». Той, с кем такая жара приключилась впервые в жизни, была замужняя подружка невесты – это я выяснил, отчасти подслушивая на тротуаре. Дюжая девка лет двадцати четырех-пяти в розовом атласном платье, с ободком искусственных незабудок на голове. От нее отчетливо несло атлетикой, словно годом-двумя ранее в колледже она специализировалась по физвоспитанию. На коленях она держала букет гардений – точно сдувшийся волейбольный мяч. Сидела она сзади, бедром к бедру со своим мужем и крохотным старичком в цилиндре и визитке, державшим незажженную гаванскую сигару из настоящего кубинского табака. Мы с миссис Силзбёрн – колени наши попарно и целомудренно соприкасались – занимали откидные сиденья. Дважды, безо всяких оправданий с моей стороны, из чистого одобрения я бросал через плечо взгляды на крохотного старичка. Когда я осуществлял погрузку в машины и открывал ему дверцу, меня посетил мимолетный соблазн физически взять его на руки и нежно сунуть в салон прямо сквозь открытое окно. Он был воплощенной крохотностью, наверняка не больше четырех футов и девяти-десяти дюймов росточком, причем не карлик и не лилипут. В машине он сидел, очень мрачно вперившись взглядом куда-то вперед. На второй раз я заметил на лацкане его визитки, похоже, старое пятно от подливки. Кроме того, я обратил внимание, что шелковый его цилиндр на добрых четыре-пять дюймов не достает до потолка салона… Однако по большей части те первые несколько минут в машине меня главным образом заботило состояние моего здоровья. Помимо плеврита и ушибленной головы, у меня, ипохондрика, развилось представление, что начинается острый фарингит. Я сидел и исподтишка выгибал язык, ощупывая якобы пораженную область. Смотрел я, насколько мне помнится, прямо перед собой, в затылок шоферу, являвший собой рельефную карту шрамов от нарывов, и тут моя приятельница по откидному сиденью обратилась ко мне:
– Мне внутри не удалось у вас спросить. Как ваша милая матушка? Вы же Дики Бриганца?
Язык мой при этом вопросе был пытливо загнут назад – до самого мягкого нёба. Я расправил отросток, сглотнул и повернулся к ней. Ей было лет пятьдесят или около того, одета модно и со вкусом. Густо наштукатуренная. Я ответил, что нет, отнюдь.
Она чуточку на меня сощурилась и ответила, что я – вылитый мальчик Силии Бриганцы. В районе губ. Лицом своим я постарался изъяснить, что совершить такую ошибку немудрено. И продолжал пялиться в затылок шоферу. В машине все стихло. Я глянул в окно, чтобы как-то разнообразить вид.
– Как вам нравится армия? – спросила миссис Силзбёрн. Вдруг решила поддержать беседу.
В этот конкретный миг на меня напал кашель. Когда приступ миновал, я со всем возможным рвением повернулся к ней и сказал, что завел там много приятелей. Разворачиваться было трудно – из-за опалубки клейкой ленты, что охватывала мою диафрагму.
Она кивнула.
– Мне кажется, все вы просто изумительны, – сказала она несколько двусмысленно. – Вы друг невесты или жениха? – затем спросила она, мягко переходя к сути.
– Ну, вообще-то я не совсем друг…
– Только не вздумайте сказать, что вы друг жениха, – перебила меня подружка невесты с заднего сиденья. – Ну окажись он у меня в руках хотя б минуты на две. Только две минуты, и все.
Миссис Силзбёрн быстро – но целиком – обернулась, дабы улыбнуться оратору. Затем снова села лицом вперед. Мы с ней описали круг почти одновременно. Если учесть, что миссис Силзбёрн оборачивалась лишь на миг, улыбка, коей она одарила подружку невесты, была просто откидным шедевром. Достаточно яркая, выражала неограниченную горячую поддержку всей молодежи на свете, но особенно – сей горячей и искренней посланнице оного возрастного среза, вероятно, представленной миссис Силзбёрн чуть ли не мимоходом, если представленной вообще.
– Кровожадная девица, – хмыкнул мужской голос. И мы с миссис Силзбёрн повернулись опять. То заговорил муж подружки невесты. Сидел он прямо за мной, слева от супруги. Мы кратко обменялись тем пустым нетоварищеским взглядом, которым в разгульном 1942 году обменивались, пожалуй, лишь офицеры с рядовыми. Первый лейтенант Сигнального корпуса, он носил очень интересную летную фуражку – с козырьком, но без проволочного каркаса в тулье, что владельцу такого убора обычно придает определенный бестрепетный вид, к коему он, надо полагать, и стремится. В его же случае фуражка подобного результата отнюдь не добивалась. Похоже, она служила лишь одной цели – делать так, чтобы в сравнении с ней мой собственный огромный уставной убор выглядел скорее клоунским колпаком, который нервно извлекли из мусоросжигателя. Лицо у лейтенанта было землистое и где-то в глубине казалось испуганным. Потел он с почти неописуемой чрезмерностью – лоб, верхняя губа, даже кончик носа – до того, что хотелось дать ему соляную таблетку. – Я женат на самой кровожадной девице в шести округах, – сказал он миссис Силзбёрн и еще раз мягко, на публику, хмыкнул. С машинальным почтением к его званию я чуть было не подхмыкнул ему – коротко, бессмысленно, как чужак и призывник, что ясно обозначало бы, что я с ним и всеми остальными в машине заодно, а не против кого-то.
– Я не шучу, – произнесла подружка невесты. – Две минуты – и все, братец. Ох вот бы взять да этими ручками моими…
– Ладно, не заводись, а? Полегче, – сказал ее муж, очевидно располагавший неисчерпаемым запасом супружеского добродушия. – Полегче. Дольше продержишься.
Миссис Силзбёрн снова обернулась к заднему сиденью и оделила подружку невесты только что не канонизированной улыбкой.
– А кого-нибудь с его половины на свадьбе видели? – мягко осведомилась она, лишь чуточку подчеркнув – совершенно благовоспитанно, не более того – личное местоимение.
Ответ подружки невесты раздался с ядовитой громкостью:
– Нет. Все на Западном побережье или еще где. Попались бы они мне.
Вновь прозвучал хмычок ее мужа.
– И что б ты сделала, милая? – спросил он – и машинально мне подмигнул.
– Ну, я не знаю, но что-нибудь бы сделала, – ответила подружка невесты. Хмычок слева от нее набрал децибелов. – Точно бы сделала! – стояла на своем она. – Сказала бы им что-нибудь. То есть. Господи. – Говорила она все самоувереннее, будто понимая, что с подсказкой от мужа мы все в пределах слышимости полагаем ее чувство справедливости, сколь бы юношеским или непрактичным оно ни было, в какой-то степени симпатично прямолинейным, отважным. – Я не знаю, что я бы им сказала. Может, пролепетала бы какую-нибудь глупость. Но господи боже мой. Честно! Тут абсолютное убийство кому-то с рук сходит, а я такого не перевариваю. У меня аж кровь закипает. – Живость свою она придержала ровно настолько, чтобы ее подстегнул взгляд напускного сопереживания от миссис Силзбёрн. Мы с этой последней теперь сверхучтиво развернулись на своих откидных сиденьях полностью. – Я не шучу, – сказала подружка невесты. – Нельзя мчаться по жизни тараном и делать людям больно, если заблагорассудится.
– Боюсь, я очень мало знаю об этом юноше, – тихо сказала миссис Силзбёрн. – Я с ним даже не встречалась. Я впервые услышала, что Мюриэл вообще обручена…
– С ним никто не встречался, – довольно пылко произнесла подружка невесты. – Даже я с ним не знакома. У нас было две репетиции, и оба раза вместо него приходилось стоять бедному папе Мюриэл, а все потому, что его дурацкий самолет не мог взлететь. Он должен был сюда примчаться вечером в прошлый вторник на каком-то дурацком военном самолете, но в этом Колорадо, или Аризоне, или где там, шел снег или еще какая дрянь, и прилетел он только в час ночи вчера. И сразу – в этот безумный час – звонит Мюриэл по телефону откуда-то аж с Лонг-Айленда или еще откуда-то и просит встретиться с ним в вестибюле какого-то кошмарного отеля, чтобы только поговорить. – Подружка невесты красноречиво содрогнулась. – Но вы же знаете Мюриэл. Она ж такая милашка, ею помыкает кто угодно и родня их в придачу. Это меня и бесит. Таким людям в конце всегда больно… В общем, она одевается, ловит такси и потом сидит с этим типом в каком-то кошмарном вестибюле, разговаривает до без четверти пять утра. – Подружка невесты разжала хватку на букете гардений лишь для того, чтобы приподнять два стиснутых кулака. – Ууу, я просто в бешенстве! – сказала она.
– Какого отеля? – спросил я подружку невесты. – Вы не знаете? – Я постарался это сказать легко, будто бы отец мой случайно занимается гостиницами и я выказываю некий вполне объяснимый сыновний интерес к тому, где в Нью-Йорке останавливаются люди. На самом же деле вопрос мой не означал почти ничего. Я просто размышлял вслух – более-менее. Мне стало любопытно: мой брат попросил свою нареченную о встрече в гостиничном вестибюле, а не у себя в свободной квартире. Нравственность подобного приглашения была совершенно для него типична, но все равно как-то странно.
– Откуда я знаю, какого? – огрызнулась подружка невесты. – Просто какого-то. – Она воззрилась на меня. – А что? – вопросила она. – Вы его друг?
Нечто во взгляде ее отчетливо внушало робость. Казалось, он исходит от толпы в одну женщину, которую лишь случай и время разлучили с вязаньем и превосходным видом на гильотину[13 - Имеются в виду «вязальщицы» – женщины, которых в период якобинского террора (1793–1794) нанимали для соблюдения буквы судопроизводства при публичном вынесении смертных приговоров; обычно сидели около гильотины и вязали.]. Толпы – любые – меня устрашали всю жизнь.
– Мы вместе росли, – ответил я почти неразборчиво.
– Повезло же!
– Ладно тебе, – сказал ее муж.
– Ох прости меня, – сказала подружка невесты – ему, но обращаясь к нам всем. – Но тебя с ней не было, когда бедняжка целый час на слезы исходила. Это не смешно, и ты этого не забывай. Я слыхала, что женихи в последний момент трусят и все такое. Но так не поступают в последний миг. В смысле, не делают так, чтобы до полусмерти смутить множество совершенно милых людей и едва не сломить девочке дух и все такое! Если он передумал, почему не написать ей и хотя бы не расторгнуть все воспитанно, ради всего святого? Пока не поздно.
– Ладно, не заводись, только не заводись, – сказал ее муж. Хмычок его все еще витал в воздухе, но звучал уже как-то напряженно.
– Но я же не шучу! Написал бы да просто сказал ей, как мужчина, чтоб не было такой трагедии, а? – Она вдруг вперилась в меня. – Вы, случайно, не в курсе, где он сейчас может быть? – вопросила она со сталью в голосе. – Вы же друзья детства, значит, должны как-то…
– Я приехал в Нью-Йорк всего два часа назад, – занервничал я. Не только подружка невесты, но и ее муж и миссис Силзбёрн теперь на меня пялились. – Мне даже телефон еще не попадался. – В тот миг, насколько мне помнится, меня опять придушил кашель. Достаточно подлинный, но должен сказать, я очень мало старался подавить его или сократить приступ.
– Вашим кашлем кто-нибудь занимался, боец? – спросил меня лейтенант, когда кашель прекратился.
Тут меня одолел новый приступ – странное дело, но тоже неподдельный. Я по-прежнему сидел, как бы на четверть обернувшись вправо, всем корпусом по ходу движения – вполне хватало, чтобы кашлять с гигиенической пристойностью.
Хаос, конечно, – однако здесь, я полагаю, следует вклинить один абзац и ответить на пару трудных вопросов. Перво-наперво: почему я не вылез из машины? Если не брать во внимание прочие попутные соображения, лимузин должен был доставить пассажиров к многоквартирному дому родителей невесты. Нисколько сведений – ни из первых, ни из вторых рук, – что я мог бы получить от оглоушенной и по-прежнему незамужней невесты или от ее расстроенных (и, весьма вероятно, рассвирепевших) родителей, никак не компенсировали неловкости моего присутствия в их квартире. Зачем же я тогда продолжал сидеть в машине? Почему не вышел, скажем, на светофоре? И, что еще непонятнее, зачем вообще я в нее сел?.. Мне кажется, на эти вопросы имеется как минимум дюжина ответов, и все они, сколь бы ни были невнятны, вполне резонны. Однако, сдается мне, без них можно запросто обойтись и просто повторить, что год был 1942-й, мне двадцать три, я только что призван, меня только что научили, что полезнее не отбиваться от стада, – а превыше прочего мне одиноко. Я так прикидываю, тут просто заскакиваешь в набитую машину и в ней сидишь.
Возвращаясь к сюжету, помню, что когда все трое – подружка невесты, ее муж и миссис Силзбёрн – совокупно глазели на меня, наблюдая, как я кашляю, я бросил взгляд на крохотного старичка на заднем сиденье. Тот по-прежнему неотрывно пялился вперед. Я едва ль не с благодарностью отметил, что ноги его не вполне достают до пола. Мне они помстились старинными и дорогими друзьями.
– А чем вообще этот человек занят? – спросила подружка невесты, когда я вынырнул из второго приступа кашля.
– Вы имеете в виду Симора? – переспросил я. По ее тону поначалу казалось, что в виду она имеет как раз нечто особо позорное. И тут вдруг до меня дошло – чистая интуиция, – что она очень запросто может втайне владеть разнообразнейшими биографическими данными о Симоре: то есть низменными, прискорбно драматичными и (по моему мнению) в сущности обманчивыми данными. Что он, к примеру, лет шесть своего детства был Билли Блэком, национальной радио-«звездой». Или, еще раз к примеру, что первокурсником Коламбии он стал в пятнадцать лет.
– Да, Симора, – ответила подружка невесты. – Чем он занимался до армии?
– Наверняка что-то задерживается, – сказала она. – Вы судью Рэнкера видели вообще? У него лицо как у святого.
И помню, органная музыка на странный манер, едва ли не отчаянно в какой-то миг металась от Баха к ранним Роджерсу и Харту[10 - Композитор Ричард Роджерс (1902–1979) и поэт Лоренц Харт (1895–1943) – один из самых знаменитых творческих союзов в американской популярной культуре, авторы более 30 мюзиклов.]. Хотя в целом, боюсь, я проводил время, посиживая у собственного больничного одра и сочувствуя тому, как вынужден давить в себе кашель. Все время, пока я там сидел, меня не покидал тягучий мандраж: вот у меня сейчас откроется кровотечение или, на худой конец, треснет ребро, несмотря на корсет из клейкой ленты.
В двадцать минут пятого – или, если взглянуть на вещи прямее, через час двадцать после того, как все разумные надежды улетучились, – незамужняя невеста, опустив голову, с родителями по бокам, была выведена из здания и хрупко сопровождена по длинному лестничному маршу к тротуару. После чего ее поместили – едва ли, кажется, не затолкали – в первый же зализанный черный наемный автомобиль, что вторым рядом дожидался у обочины. То был до крайности наглядный миг – в самый раз для бульварной прессы – и, как все подобные бульварные мгновенья, дополнялся полным комплектом зевак, поскольку свадебные гости (и я в их числе) уже вываливали из здания – весьма пристойно, однако встревоженными, не сказать – пучеглазыми роями. Если у зрелища имелся хоть сколько-нибудь смягчающий аспект, за него несла ответственность сама погода. Июньское солнце так жарило и сияло, возводило такой барьер фотовспышек, что образ невесты, пока она едва ль не изможденно ковыляла по ступенькам, скорее смазывался там, где кляксы были уместнее всего.
Едва машина невесты удалилась с места действия по крайней мере физически, напряжение на тротуаре – особенно возле жерла полотняного навеса, на обочине, где ошивался, например, я, – выродилось в то смятение, которое, будь здание церковью, а день воскресеньем[11 - На самом деле 4 июня 1942 г. был четверг. В этот день началась битва за о. Мидуэй – одно из важнейших сражений Второй мировой войны на Тихом океане, закончившееся уничтожением большей части японского флота.], можно было бы принять за вполне обычное рассредоточение паствы. Затем очень как-то вдруг с нажимом разнеслось – вроде бы от невестиного дяди Эла, – что гостям надо воспользоваться машинами у обочины; то есть все равно, будет банкет, не будет банкета, поменялись планы или не поменялись. Если возможно судить по реакции тех, кто меня окружал, предложение, в общем, восприняли как некий beau geste[12 - Красивый жест (фр.).]. Однако не само собой разумелось, что «воспользоваться» машинами следовало лишь после того, как потребные транспортные средства разберет, дабы тоже покинуть место действия, солидный с виду отряд, определяемый как «ближайшие родственники» невесты. И после отчасти загадочного промедления, смахивавшего на затор (я при этом оставался на странный манер пригвожден к месту), «ближайшие родственники» действительно начали свой исход – аж по шесть-семь человек на машину, либо всего по трое-четверо. Число это, насколько я понимал, зависело от возраста, манер и ширины бедер первого, кто занимал место.
Ни с того ни с сего после чьего-то прощального предложения – отчетливого приказа – я понял, что стою на самой обочине непосредственно в жерле полотняного навеса и помогаю людям садиться в машины.
Каким образом я оказался выделен для несения этого наряда, заслуживает не очень глубоких умопостроений. Насколько мне известно, неопределенный активист средних лет, избравший меня для наряда, и отдаленнейшего понятия не имел, что я – брат жениха. Следовательно, представляется логичным, что выбрали меня по иным, куда менее поэтичным причинам. На дворе 1942 год. Мне двадцать три, и я только что призван в армию. Сдается, сам возраст мой, обмундирование и безошибочно исправная тускло-оливковая аура, витавшая надо мной, не оставляли сомнений в том, кому здесь работать швейцаром.
Мне было не только двадцать три года – года мои являли приметную задержку в развитии. Помню, я сажал людей в машины совершенно неквалифицированно. Напротив, занимался я этим с неким хитроумным курсантским подобием целеустремленности либо преданности долгу. Всего через несколько минут я осознал, что обслуживаю нужды преимущественно старшего, более низкорослого и мясистого поколения, и мои обязанности рукоподавателя и двереотрывальщика приняли еще более липово властный оттенок. Я начал вести себя как крайне проворный, целиком и полностью располагающий к себе молоденький гигант с кашлем.
Но дневная жара, если выразиться очень мягко, угнетала, а вознаграждение за мою службу, надо полагать, выглядело все более символическим. Хотя толпа «ближайших родственников» вроде бы почти не поредела, я внезапно сам ринулся в какой-то недозагруженный автомобиль, как только он стал отъезжать от обочины. При этом я крайне звучно (видать, в наказание) треснулся головой о крышу. Среди пассажиров оказалась не кто иная, как моя знакомая шепталка Хелен Силзбёрн – и она тут же кинулась мне безусловно сочувствовать. Удар, очевидно, прозвучал на весь салон. Но в двадцать три года я относился к той разновидности юношества, коя на всякое увечье, нанесенное их персонам, исключая разве что проломленный череп, реагирует гулким хохотом явно недоразвитых.
Машина тронулась на запад – прямо, так сказать, в открытую духовку заката. И двигалась на запад два квартала, пока не достигла Мэдисон-авеню, где резко свернула вправо. Мне мстилось, что всех нас от кошмарной жаровой трубы солнца спасают лишь невообразимая сметка и умения нашего безымянного водителя.
Первые четыре или пять кварталов к северу по Мэдисон беседа в машине главным образом сводилась к замечаниям вроде «Я вас не стесняю?» и «Первый раз в жизни такая жара». Той, с кем такая жара приключилась впервые в жизни, была замужняя подружка невесты – это я выяснил, отчасти подслушивая на тротуаре. Дюжая девка лет двадцати четырех-пяти в розовом атласном платье, с ободком искусственных незабудок на голове. От нее отчетливо несло атлетикой, словно годом-двумя ранее в колледже она специализировалась по физвоспитанию. На коленях она держала букет гардений – точно сдувшийся волейбольный мяч. Сидела она сзади, бедром к бедру со своим мужем и крохотным старичком в цилиндре и визитке, державшим незажженную гаванскую сигару из настоящего кубинского табака. Мы с миссис Силзбёрн – колени наши попарно и целомудренно соприкасались – занимали откидные сиденья. Дважды, безо всяких оправданий с моей стороны, из чистого одобрения я бросал через плечо взгляды на крохотного старичка. Когда я осуществлял погрузку в машины и открывал ему дверцу, меня посетил мимолетный соблазн физически взять его на руки и нежно сунуть в салон прямо сквозь открытое окно. Он был воплощенной крохотностью, наверняка не больше четырех футов и девяти-десяти дюймов росточком, причем не карлик и не лилипут. В машине он сидел, очень мрачно вперившись взглядом куда-то вперед. На второй раз я заметил на лацкане его визитки, похоже, старое пятно от подливки. Кроме того, я обратил внимание, что шелковый его цилиндр на добрых четыре-пять дюймов не достает до потолка салона… Однако по большей части те первые несколько минут в машине меня главным образом заботило состояние моего здоровья. Помимо плеврита и ушибленной головы, у меня, ипохондрика, развилось представление, что начинается острый фарингит. Я сидел и исподтишка выгибал язык, ощупывая якобы пораженную область. Смотрел я, насколько мне помнится, прямо перед собой, в затылок шоферу, являвший собой рельефную карту шрамов от нарывов, и тут моя приятельница по откидному сиденью обратилась ко мне:
– Мне внутри не удалось у вас спросить. Как ваша милая матушка? Вы же Дики Бриганца?
Язык мой при этом вопросе был пытливо загнут назад – до самого мягкого нёба. Я расправил отросток, сглотнул и повернулся к ней. Ей было лет пятьдесят или около того, одета модно и со вкусом. Густо наштукатуренная. Я ответил, что нет, отнюдь.
Она чуточку на меня сощурилась и ответила, что я – вылитый мальчик Силии Бриганцы. В районе губ. Лицом своим я постарался изъяснить, что совершить такую ошибку немудрено. И продолжал пялиться в затылок шоферу. В машине все стихло. Я глянул в окно, чтобы как-то разнообразить вид.
– Как вам нравится армия? – спросила миссис Силзбёрн. Вдруг решила поддержать беседу.
В этот конкретный миг на меня напал кашель. Когда приступ миновал, я со всем возможным рвением повернулся к ней и сказал, что завел там много приятелей. Разворачиваться было трудно – из-за опалубки клейкой ленты, что охватывала мою диафрагму.
Она кивнула.
– Мне кажется, все вы просто изумительны, – сказала она несколько двусмысленно. – Вы друг невесты или жениха? – затем спросила она, мягко переходя к сути.
– Ну, вообще-то я не совсем друг…
– Только не вздумайте сказать, что вы друг жениха, – перебила меня подружка невесты с заднего сиденья. – Ну окажись он у меня в руках хотя б минуты на две. Только две минуты, и все.
Миссис Силзбёрн быстро – но целиком – обернулась, дабы улыбнуться оратору. Затем снова села лицом вперед. Мы с ней описали круг почти одновременно. Если учесть, что миссис Силзбёрн оборачивалась лишь на миг, улыбка, коей она одарила подружку невесты, была просто откидным шедевром. Достаточно яркая, выражала неограниченную горячую поддержку всей молодежи на свете, но особенно – сей горячей и искренней посланнице оного возрастного среза, вероятно, представленной миссис Силзбёрн чуть ли не мимоходом, если представленной вообще.
– Кровожадная девица, – хмыкнул мужской голос. И мы с миссис Силзбёрн повернулись опять. То заговорил муж подружки невесты. Сидел он прямо за мной, слева от супруги. Мы кратко обменялись тем пустым нетоварищеским взглядом, которым в разгульном 1942 году обменивались, пожалуй, лишь офицеры с рядовыми. Первый лейтенант Сигнального корпуса, он носил очень интересную летную фуражку – с козырьком, но без проволочного каркаса в тулье, что владельцу такого убора обычно придает определенный бестрепетный вид, к коему он, надо полагать, и стремится. В его же случае фуражка подобного результата отнюдь не добивалась. Похоже, она служила лишь одной цели – делать так, чтобы в сравнении с ней мой собственный огромный уставной убор выглядел скорее клоунским колпаком, который нервно извлекли из мусоросжигателя. Лицо у лейтенанта было землистое и где-то в глубине казалось испуганным. Потел он с почти неописуемой чрезмерностью – лоб, верхняя губа, даже кончик носа – до того, что хотелось дать ему соляную таблетку. – Я женат на самой кровожадной девице в шести округах, – сказал он миссис Силзбёрн и еще раз мягко, на публику, хмыкнул. С машинальным почтением к его званию я чуть было не подхмыкнул ему – коротко, бессмысленно, как чужак и призывник, что ясно обозначало бы, что я с ним и всеми остальными в машине заодно, а не против кого-то.
– Я не шучу, – произнесла подружка невесты. – Две минуты – и все, братец. Ох вот бы взять да этими ручками моими…
– Ладно, не заводись, а? Полегче, – сказал ее муж, очевидно располагавший неисчерпаемым запасом супружеского добродушия. – Полегче. Дольше продержишься.
Миссис Силзбёрн снова обернулась к заднему сиденью и оделила подружку невесты только что не канонизированной улыбкой.
– А кого-нибудь с его половины на свадьбе видели? – мягко осведомилась она, лишь чуточку подчеркнув – совершенно благовоспитанно, не более того – личное местоимение.
Ответ подружки невесты раздался с ядовитой громкостью:
– Нет. Все на Западном побережье или еще где. Попались бы они мне.
Вновь прозвучал хмычок ее мужа.
– И что б ты сделала, милая? – спросил он – и машинально мне подмигнул.
– Ну, я не знаю, но что-нибудь бы сделала, – ответила подружка невесты. Хмычок слева от нее набрал децибелов. – Точно бы сделала! – стояла на своем она. – Сказала бы им что-нибудь. То есть. Господи. – Говорила она все самоувереннее, будто понимая, что с подсказкой от мужа мы все в пределах слышимости полагаем ее чувство справедливости, сколь бы юношеским или непрактичным оно ни было, в какой-то степени симпатично прямолинейным, отважным. – Я не знаю, что я бы им сказала. Может, пролепетала бы какую-нибудь глупость. Но господи боже мой. Честно! Тут абсолютное убийство кому-то с рук сходит, а я такого не перевариваю. У меня аж кровь закипает. – Живость свою она придержала ровно настолько, чтобы ее подстегнул взгляд напускного сопереживания от миссис Силзбёрн. Мы с этой последней теперь сверхучтиво развернулись на своих откидных сиденьях полностью. – Я не шучу, – сказала подружка невесты. – Нельзя мчаться по жизни тараном и делать людям больно, если заблагорассудится.
– Боюсь, я очень мало знаю об этом юноше, – тихо сказала миссис Силзбёрн. – Я с ним даже не встречалась. Я впервые услышала, что Мюриэл вообще обручена…
– С ним никто не встречался, – довольно пылко произнесла подружка невесты. – Даже я с ним не знакома. У нас было две репетиции, и оба раза вместо него приходилось стоять бедному папе Мюриэл, а все потому, что его дурацкий самолет не мог взлететь. Он должен был сюда примчаться вечером в прошлый вторник на каком-то дурацком военном самолете, но в этом Колорадо, или Аризоне, или где там, шел снег или еще какая дрянь, и прилетел он только в час ночи вчера. И сразу – в этот безумный час – звонит Мюриэл по телефону откуда-то аж с Лонг-Айленда или еще откуда-то и просит встретиться с ним в вестибюле какого-то кошмарного отеля, чтобы только поговорить. – Подружка невесты красноречиво содрогнулась. – Но вы же знаете Мюриэл. Она ж такая милашка, ею помыкает кто угодно и родня их в придачу. Это меня и бесит. Таким людям в конце всегда больно… В общем, она одевается, ловит такси и потом сидит с этим типом в каком-то кошмарном вестибюле, разговаривает до без четверти пять утра. – Подружка невесты разжала хватку на букете гардений лишь для того, чтобы приподнять два стиснутых кулака. – Ууу, я просто в бешенстве! – сказала она.
– Какого отеля? – спросил я подружку невесты. – Вы не знаете? – Я постарался это сказать легко, будто бы отец мой случайно занимается гостиницами и я выказываю некий вполне объяснимый сыновний интерес к тому, где в Нью-Йорке останавливаются люди. На самом же деле вопрос мой не означал почти ничего. Я просто размышлял вслух – более-менее. Мне стало любопытно: мой брат попросил свою нареченную о встрече в гостиничном вестибюле, а не у себя в свободной квартире. Нравственность подобного приглашения была совершенно для него типична, но все равно как-то странно.
– Откуда я знаю, какого? – огрызнулась подружка невесты. – Просто какого-то. – Она воззрилась на меня. – А что? – вопросила она. – Вы его друг?
Нечто во взгляде ее отчетливо внушало робость. Казалось, он исходит от толпы в одну женщину, которую лишь случай и время разлучили с вязаньем и превосходным видом на гильотину[13 - Имеются в виду «вязальщицы» – женщины, которых в период якобинского террора (1793–1794) нанимали для соблюдения буквы судопроизводства при публичном вынесении смертных приговоров; обычно сидели около гильотины и вязали.]. Толпы – любые – меня устрашали всю жизнь.
– Мы вместе росли, – ответил я почти неразборчиво.
– Повезло же!
– Ладно тебе, – сказал ее муж.
– Ох прости меня, – сказала подружка невесты – ему, но обращаясь к нам всем. – Но тебя с ней не было, когда бедняжка целый час на слезы исходила. Это не смешно, и ты этого не забывай. Я слыхала, что женихи в последний момент трусят и все такое. Но так не поступают в последний миг. В смысле, не делают так, чтобы до полусмерти смутить множество совершенно милых людей и едва не сломить девочке дух и все такое! Если он передумал, почему не написать ей и хотя бы не расторгнуть все воспитанно, ради всего святого? Пока не поздно.
– Ладно, не заводись, только не заводись, – сказал ее муж. Хмычок его все еще витал в воздухе, но звучал уже как-то напряженно.
– Но я же не шучу! Написал бы да просто сказал ей, как мужчина, чтоб не было такой трагедии, а? – Она вдруг вперилась в меня. – Вы, случайно, не в курсе, где он сейчас может быть? – вопросила она со сталью в голосе. – Вы же друзья детства, значит, должны как-то…
– Я приехал в Нью-Йорк всего два часа назад, – занервничал я. Не только подружка невесты, но и ее муж и миссис Силзбёрн теперь на меня пялились. – Мне даже телефон еще не попадался. – В тот миг, насколько мне помнится, меня опять придушил кашель. Достаточно подлинный, но должен сказать, я очень мало старался подавить его или сократить приступ.
– Вашим кашлем кто-нибудь занимался, боец? – спросил меня лейтенант, когда кашель прекратился.
Тут меня одолел новый приступ – странное дело, но тоже неподдельный. Я по-прежнему сидел, как бы на четверть обернувшись вправо, всем корпусом по ходу движения – вполне хватало, чтобы кашлять с гигиенической пристойностью.
Хаос, конечно, – однако здесь, я полагаю, следует вклинить один абзац и ответить на пару трудных вопросов. Перво-наперво: почему я не вылез из машины? Если не брать во внимание прочие попутные соображения, лимузин должен был доставить пассажиров к многоквартирному дому родителей невесты. Нисколько сведений – ни из первых, ни из вторых рук, – что я мог бы получить от оглоушенной и по-прежнему незамужней невесты или от ее расстроенных (и, весьма вероятно, рассвирепевших) родителей, никак не компенсировали неловкости моего присутствия в их квартире. Зачем же я тогда продолжал сидеть в машине? Почему не вышел, скажем, на светофоре? И, что еще непонятнее, зачем вообще я в нее сел?.. Мне кажется, на эти вопросы имеется как минимум дюжина ответов, и все они, сколь бы ни были невнятны, вполне резонны. Однако, сдается мне, без них можно запросто обойтись и просто повторить, что год был 1942-й, мне двадцать три, я только что призван, меня только что научили, что полезнее не отбиваться от стада, – а превыше прочего мне одиноко. Я так прикидываю, тут просто заскакиваешь в набитую машину и в ней сидишь.
Возвращаясь к сюжету, помню, что когда все трое – подружка невесты, ее муж и миссис Силзбёрн – совокупно глазели на меня, наблюдая, как я кашляю, я бросил взгляд на крохотного старичка на заднем сиденье. Тот по-прежнему неотрывно пялился вперед. Я едва ль не с благодарностью отметил, что ноги его не вполне достают до пола. Мне они помстились старинными и дорогими друзьями.
– А чем вообще этот человек занят? – спросила подружка невесты, когда я вынырнул из второго приступа кашля.
– Вы имеете в виду Симора? – переспросил я. По ее тону поначалу казалось, что в виду она имеет как раз нечто особо позорное. И тут вдруг до меня дошло – чистая интуиция, – что она очень запросто может втайне владеть разнообразнейшими биографическими данными о Симоре: то есть низменными, прискорбно драматичными и (по моему мнению) в сущности обманчивыми данными. Что он, к примеру, лет шесть своего детства был Билли Блэком, национальной радио-«звездой». Или, еще раз к примеру, что первокурсником Коламбии он стал в пятнадцать лет.
– Да, Симора, – ответила подружка невесты. – Чем он занимался до армии?