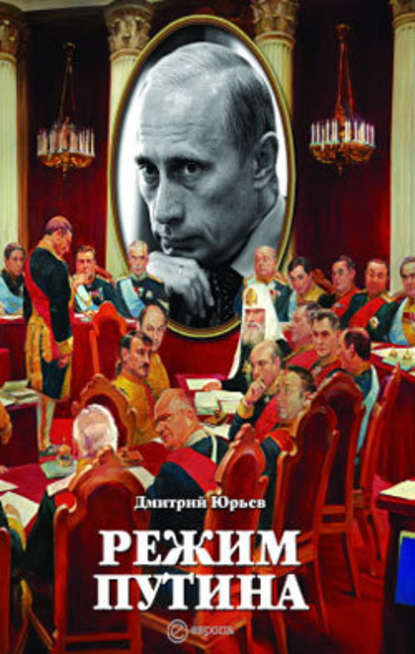По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Режим Путина. Постдемократия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
ИГРА В «СРЕДНИЕ КЛАССЫ»
«Средний класс» в России пытался родиться трижды. В первый раз на эту роль – роль слоя, объединяющего экономически активное, социально солидарное, культурно и ценностно ориентированное население, – претендовало то самое «неноменклатурное большинство» страны, которое обеспечило почти 60-процентную поддержку Ельцину на выборах президента РСФСР и провалило путч ГКЧП. Этот «советский средний класс» объединял практически все образованное население страны: научно-техническую и творческую интеллигенцию, инженерно-технических работников, врачей, учителей, средних и младших офицеров вооруженных сил и правоохранительных органов, квалифицированных рабочих, а также представителей нижнего и среднего уровней партийно-хозяйственной номенклатуры – под знаменитым кавээновским лозунгом 1988 года: «Партия, дай порулить!»[7 - Имелся в виду популярный советский плакат «Партия – наш рулевой». Центральным политическим лозунгом массовых митингов 1988–1990 годов стало требование отмены «шестой статьи» – статьи Конституции СССР, в соответствии с которой коммунистическая партия провозглашалась «руководящей и направляющей силой общества, ядром его политической системы» (реально шестая статья была отменена III съездом народных депутатов СССР в начале 1990 года одновременно с введением поста президента СССР). Вместе с тем следует отметить, что первоначально призыв «Партия, дай порулить!» (автор – участник команды КВН Новосибирского университета Константин Наумочкин) воспринимался как ироничная, но вполне доброжелательная просьба, обращенная к единственному в стране субъекту, имеющему право и возможность «дать порулить».]
Активизация «советского среднего класса» в конце 80-х годов была социально-психологической реакцией на сложившуюся в СССР систему. Система исчерпала свой ресурс самосохранения, оказалась лишена обратных связей: с одной стороны, требования жизни (прежде всего экономическое и военное соревнование с Западом в условиях НТР) обусловили резкий рост квалификации, интеллектуального уровня и, следовательно, самосознания и амбиций «образованного большинства» советского общества, с другой стороны – все рычаги власти, управления, а главное, распределения оставались в бесконтрольном ведении партгосноменклатуры. Более того, даже на демонстрационно-пропагандистском уровне общественной организации (например, квоты на прием в КПСС или на выборы в Советы) сохранялась давно утратившая всякий смысл имитационная дискриминация «советских средних» в пользу якобы «правящего» пролетариата.
Стремление к социальному реваншу, ставшее стержнем общенародного подъема в конце 80-х годов, было окрашено в эмоционально привлекательные тона, поскольку «номенклатура» представала главной и единственной преградой на пути к тотальному улучшению качества и наполненности жизни.
Однако советский средний класс был именно советским средним классом. Несмотря на достаточно высокий культурный уровень, несмотря на активное и подробное общественное обсуждение перспектив перехода от «командно-административной системы» к «рыночному хозяйству», на уровне «коллективного бессознательного» советский средний класс сохранял атавистические, патерналистские представления о роли и месте государства как неограниченного источника власти и благ. Общественное движение конца 80-х годов только силой собственной инерции и политической логики превратилось в «демократическое движение» – довольно долго в массе своей это было в чистом виде движение социального реванша с достаточно примитивной мотивацией: нужно убрать «плохих» людей (то есть «их») и на их место поставить «хороших» (то есть «нас»).
Такое утопическое представление о постсоветском будущем не выдержало столкновения с реальностью. Во-первых, рыночно-демократическая идеология, став официальной идеологией реформ, предложила всем своим сторонникам непопулярные и не рассчитанные на немедленное улучшение жизни меры (прежде всего децентрализацию управления экономикой и либерализацию цен). Во-вторых, и эта, ставшая сразу же достаточно проблемной, идеология столкнулась с практикой «номенклатурного реванша»: даже «плохих людей» из прежней партгосноменклатуры, и тех практически не заменили.[8 - Тема «номенклатурного реванша» активно обсуждалась в СМИ на рубеже 1991–1992 годов. В первые месяцы после августа 1991 года вопросы «деноменклатуризации власти» и «люстрации» (принудительного отстранения от работы в госаппарате деятелей номенклатурно-коммунистического режима по типу «денацификации» в постнюрнбергской Германии) были в центре общественной дискуссии; после завершения (осень 1992 года) процесса в Конституционном суде о правомерности запрета КПСС и после легализации КПРФ тема «номенклатурного реванша» стала уделом маргиналов демдвижения.]
Наступил первый, слабо осознанный, фрустрационный шок – эффект «украденной революции», датируемый последними месяцами 1991 года. В этот момент многомиллионный советский средний класс утратил свое «классовое» единство, так и не став кадровым резервом для новой демократической власти.
Вторая попытка формирования среднего класса в России началась практически сразу же после эмоционального поражения «августовской революции», пока еще не осознанного на смысловом уровне. «Средний класс» второго призыва представлял собой ту большую и наиболее активную часть прежнего советского среднего класса, которая, с одной стороны, оказалась не втянутой во власть и в первые крупные спекуляции общегосударственного уровня, а с другой, не отсеялась на социальную обочину вместе с теми, для кого «номенклатурный реванш» (или «грабительские гайдаровские реформы») стал знаком окончательного поражения идеалов «августа 1991 года».
«Второй средний класс» в наиболее полной мере воспринял в качестве главного жизненного стимула разрушение системы ограничений и запретов, свойственных советскому режиму. Реакцией стала эйфорическая готовность к неограниченному приобретению благ, лозунгом дня – «Я не халявщик, я партнер». Именно из «халявщиков и партнеров» и составился «второй средний класс», в основе массовой психологии которого оставалось советское подсознательное представление о государстве как о неограниченном резервуаре – бесконечном источнике ресурсов, денег, благ, добра и счастья. Только под воздействием такого психологического стереотипа множество образованных и умных людей оказалось готово к игре в общенациональные наперстки – в том числе к вложению денег под полторы тысячи процентов годовых.
Конец «второго среднего класса» растянулся на мучительный год. Он начался в декабре 1993 года в момент сокрушительного поражения «Выбора России» на первых парламентских выборах. Не гиперинфляция весны – лета 1993 года, не октябрьская гражданская война в Москве, а именно празднование «политического нового года», когда «партнеры» впервые, в прямом эфире и на глазах у всей страны осознали, что они и народ – это не одно и то же.
А крах «Властилины», МММ, «Чары» и, как апофеоз процесса, «черный вторник» 1994 года[9 - В этот день, 11 октября 1994 года, произошел обвал курса рубля, ставший вплоть до дефолта 17 августа 1998 года символом угрозы финансовой нестабильности в России.] окончательно разбудили социального лунатика: оказалось, что вместо просторной и торной, залитой солнцем дороги он стоит на краю шаткого карниза в абсолютной темноте.
Третья реинкарнация «среднего класса» начинает формироваться практически сразу же на обломках «черного вторника». Она оказалась куда менее социально однородной и практически лишенной единого культурного кода и группового самосознания. Просто на передний план вышли те люди, которые поняли, что только за то, что они есть и поддерживают курс реформ, никаких денег им никто не должен. «Третий средний класс» объединил осколки «первого»: людей очень широкого спектра доходов и занятий – челноков, журналистов, мелких, средних и чуть более крупных бизнесменов, высокооплачиваемых менеджеров и т. д. Он собственными синяками и шишками прочувствовал, что беспредельного резервуара денег не существует, но сделал из этого парадоксальный вывод – ничего иного тоже не существует.
Именно в этот момент российский политический спектр начал дробиться до бесконечно малых величин, достигнув пика (43 партий) на парламентских выборах 1995 года.[10 - Несовершенство закона о выборах депутатов Государственной думы позволяло создавать партии и блоки быстро и фактически па пустом месте. Из 43 «партийных списков», внесенных в бюллетени в декабре 1995 года, 5-процентный барьер преодолели только четыре – КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» и «Наш дом – Россия», набравшие вместе немногим более 50 % голосов (т. е. не представленными оказались свыше 40 % голосов избирателей).] Именно в этот момент оформилась виртуальная реальность пелевинского романа «Generation П», а Россия стала страной победившего пиара. Именно в этот момент оказалось, что каждый существует в абсолютной пустоте, а уровень дохода определяется исключительно удачей, «фартом».
Третий средний класс достаточно отчетливо ощущал, что он – не народ. Силами издательского дома «Коммерсантъ» он даже попытался дать себе красивое, оригинальное определение – «новые русские» (1994 год), – которое очень скоро по объективным причинам стало анекдотическим. Идеология и психология «фартовых» подмяла под себя и экономику страны, и политику, и их собственное благополучие. Естественным стало включение блатной фени в общеупотребительный словарь элиты, столь же естественными – полная виртуализация журналистского труда, коллапс информационного пространства.
Концом шабаша «фартовых» стал августовский дефолт 1998 года. Вдруг выяснилось, что каждый из успешных, из «фартовых», из тех, кто не сдался, – фактически злоумышленник, долгие годы балансирующий на грани нарушения закона, испытывающий постоянный стресс как от возможности «случайного наказания» (в стране, где неисполнение законов носит характер повсеместного явления, любое сколь угодно мягкое наказание за их невыполнение воспринимается не как «наказание», а только как произвол), так и от собственной «плохости», невозможности жить «нормально», согласуясь с общепринятыми правилами и общественной этикой (за отсутствием таковых). Страну поразил всеобщий стресс, принявший форму общенационального синдрома хронической усталости.
Но к моменту прихода Владимира Путина к власти – на уровне подсознательного ощущения, на уровне интуитивного предвидения – стала возникать какая-то совсем другая Россия. Она обозначилась на фоне утомленной реальности, на фоне деморализованных олигархов, на фоне угрожающей стилистики спецкадров новой власти – и обозначилась очень непривычно: предвестниками нового стиля, нового образа жизни.
ДИАЛЕКТИКА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАНИМАЦИИ
Несмотря на свою электоральную немощь, складывающийся в России «новый средний класс» является единственным возможным зародышем кристаллизации подлинного, самодостаточного и безопасного для людей гражданского общества.
«Новый средний класс» – вернее, его прообраз – имеет все признаки единой, активной и агрессивной социальной страты. Но окружен он со всех сторон абсолютно аморфным обществом. Сутью социально-психологической трансформации послеавгустовской России стала люмпенизация всей страны. Место пролетариата практически повсеместно занял люмпен-пролетариат – объект посулов и шантажа со стороны сменяющих друг друга полубандитских люмпен-акционеров. Ученые, не успевшие податься на зарубежные гранты, и музыканты, не уехавшие на международные гастроли, составили слой люмпен-интеллигенции, у которой сразу же появился свой люмпен-представитель в политическом пространстве: объединение «Яблоко». Муляж информационной реальности принялись клепать люмпен-журналисты, а за их спинами выросли колоссальными мыльными пузырями люмпен-олигархи. И всем этим пытались рулить люмпен-политики, люмпен-администраторы, столь же дезориентированные и депрессивные, как и те, кем они пытались рулить. Все как один не знающие ни своего места, ни своей роли, ни своей соотнесенности с другими членами и группами общества, лишенные представления о личных и групповых интересах, уставшие от свободы и ответственности, элементы несостоявшегося российского общества превратились в те самые пресловутые «деклассированные элементы». И противоречие, возникающее между инфантильным сознанием большинства и самоощущением взрослого активного меньшинства, носит характер глубокого, но, возможно, конструктивного, интенсифицирующего кризиса.
Потому что, с одной стороны, «новые средние» на «генетическом» уровне – преемники, продолжатели и наследники «советской интеллигенции», ее культуры и идеологии. «Новые средние» вырастают из ценностей и представлений «советских средних», не пытаясь подменить их ни халявной эйфорией первых пореформенных лет, ни преддефолтной бандитско-постмодернистской дискредитацией всего и вся в духе Пелевина, Сорокина и профессора Лебединского.[11 - Владимир Сорокин – популярный русский писатель конца XX – начала XXI века, в центре творчества которого находится абсолютизированная пародия, доводящая до абсурда любую – стилистическую, нравственную, идеологическую, политическую – систему. Виктор Пелевин – автор наиболее эффектного популярного образа реальности середины 90-х гг. (романы «Чапаев и Пустота», «Жизнь насекомых», «Generation П»). Профессор Лебединский – автор шансона «Я убью тебя, лодочник», воплотившего господствующую интонацию эпохи.] Но, вырастая из культуры и этики «советской интеллигенции», «новые средние» подводят под ее ценностями и эпохой окончательную черту, преодолевают и отвергают ее ценностную систему, время которой ушло, ради новой, своей, органичной и живой, время которой наступает. А это значит, что, будучи для значительной части населения страны «своими», «понятными», новые средние способны преодолеть социокультурную импотенцию прежних властителей дум, гальванизаторов шестидесятничества.
С другой стороны, «новые средние» по наследству приобретают и врагов, причем статусных, хорошо организованных, претендующих на полученную с самого верха санкцию на «задание вектора стратегии России». Речь идет о наиболее агрессивной части деклассированного большинства. Стоит подчеркнуть, что сам факт наличия «новых средних», став достоянием массового сознания, обеспечивает им самый «теплый» прием со стороны всероссийского держиморды, хотя бы по той простой причине, что «новые средние» куда реальнее и опаснее, чем иллюзорные «жиды» и прочие в очках и шляпах. А это значит, что «новым средним» придется как-то очень-очень быстро собираться и организовываться.
У «новых средних» нет электорального ресурса. Им не хватит ни сил, ни энергии для того, чтобы послужить «тягловой лошадью» процесса социальной реанимации России. Но именно и только «новые средние» обладают мощным ресурсом для роли «задающего генераторa», способного предложить стране новый стиль, новый ритм, новый образ и новые привлекательные ценности.
Именно и только «новые средние» смогут решить несравнимо более важную задачу, чем обеспечение победы той или иной партии на выборах в парламент, – дать толчок для самовоспроизводства новой России на самых разных уровнях. И на политическом – поскольку именно у «новых средних» сосредоточена основная доля национального интеллектуального и существенная доля финансового ресурса, и их первой политической задачей в связи с этим становится вовсе не формирование очередной фиктивной партии, а организация своего рода «политической ярмарки», поскольку если «новые средние» сумеют окончательно самоопределиться и организоваться, все политические партии сразу будут вынуждены искать их поддержки. И на культурном – поскольку именно на «новых средних», основных потребителей товаров и услуг, на их вкусы и предпочтения рассчитана вся сила рекламных мощностей СМИ, а значит, именно они и формируют общенациональный вкус, общенациональную моду. И на международном – поскольку именно «новые средние» (во всяком случае, пока похоже на то) способны предъявить мировому сообществу принципиально новый, нетривиальный и сильный, образ России XXI века.
«Новые средние» не имеют сегодня ни права на ошибку, ни «коридора возможностей». Им необходимо как можно скорее, причем в масштабах всей страны, найти и опознать друг друга. Им необходимо придумать и навязать обществу такую форму своего участия в его делах, которая позволит им перехватить инициативу у многочисленных люмпен-претендентов на роль «новой силы» или «государственной идеологии». И это нужно сделать по той простой причине, что они – «новые средние» – уже есть, а все остальное еще только надо выдумать. Они могут и должны избежать ошибок своих предшественников и ни в коем случае не удариться ни в партстроительство (потому что любая такая попытка обречена на обвальную девальвацию общественного внимания просто в силу того, как сегодня в обществе воспринимается партийная система), ни в новый лоббистский проект. Выдвижение, обсуждение и реализация конкретных социальных инициатив «от имени и по поручению» «новых средних» в сегодняшней России – самая насущная проблема общества. У которого большие проблемы с запасом времени.
ЯБЛОКО ЭВЫ
После 2002 года стало модным сравнивать судьбу российских реформ с реформами аргентинскими. Поводов множество: и специфика взаимоотношений обеих стран (России и Аргентины) с международным сообществом (перепады от любви до ненависти), и попытка в свое время спастись от августовского кризиса 1998 года по рецептам знаменитого аргентинца Доминго Кавалло, продекларированная несостоявшимся правительством Черномырдина – Федорова, и главное, игра на неуверенности в завтрашнем дне (особенно если сегодняшний хотя бы немного лучше вчерашнего).[12 - В конце августа – начале сентября 1998 года, после дефолта и отставки правительства во главе с Сергеем Кириенко, исполняющим обязанности председателя правительства был назначен экс-премьер (1992–1998) Виктор Черномырдин. Идеологом правительства Черномырдина нового образца выступал Борис Федоров, который декларировал радикально-либеральную программу жесткой привязки курса рубля к доллару США. После двукратного отклонения Думой кандидатуры Черномырдина Борис Ельцин выдвинул кандидатуру Евгения Примакова, которую поддержало большинство Думы – коммунисты, «Яблоко» (кстати, именно Явлинский был первым, кто публично предложил назначить премьером Примакова – как «политика, который заведомо не будет претендовать на президентский пост»), «центристы» и деморализованные сторонники бывшей «партии власти» – НДР.]
А главное, аргентинский кризис 2001–2002 годов – это превосходный повод поквитаться для сотен и тысяч «героев вчерашних дней»: советских экономистов, несостоявшихся гуру новой власти, всех тех, кому за эти годы надоели постоянные ссылки на преимущества либерального опыта, будь то чилийский, польский, западногерманский или аргентинский. Ибо главный вывод из аргентинской катастрофы – это необходимость немедленно отказаться от «радикально-либерального курса» экономической команды президента (будь то курс Гайдара, Чубайса или Грефа).
Вывод простой и удобный. Только вот совсем не логичный.
Между Россией и Аргентиной, конечно же, есть большое внутреннее сходство. И это сходство состоит в непропорционально большом весе самых примитивных популистских настроений в структуре национального общественного сознания.
Россия, так и не выведенная Столыпиным за пределы общинной психологии, пережила 70 лет паранойяльного коммунистического коллективизма, при котором в Уголовном кодексе существовал такой состав преступления, как «частное предпринимательство». Что же касается Аргентины, то там все было намного легче, но лишь в той степени, в какой аргентинское танго веселее мрачной мелодии «Вы жертвою пали в борьбе роковой…» Потому что энергии и в «Жертве», и в танго было поровну. С полной самоотдачей погружались и аргентинцы, и русские в такие взаимоотношения между властью и обществом, когда главным событием становится снижение цен (от щедрот товарища Сталина) или массовая раздача подачек (от щедрот Эвы Перон[13 - Эва Перон (1919–1952) – жена генерала Хуана Доминго Перона, президента Аргентины в 1946–1955 и в 1973–1974 гг., дама полусвета и эстрадная артистка. После прихода Перона к власти стала одним из ведущих популяризаторов перонизма – популистской идеологии нового режима. Пользовалась огромной популярностью среди беднейших слоев общества. После смерти осталась «народной любимицей». Впоследствии стала героиней рок-оперы Ллойда Уэббера «Эвита».]).
Главное сходство между Россией и Аргентиной – в умонастроении элит. При всей своей видимой непохожести и коммунисты, и перонисты десятилетиями развращали свой народ и развращались сами, привыкая к социальной безответственности и языческому культу «общества» («народа», «нации»). Отношение к идолу по имени «народ» было именно языческим: его надо задабривать жертвенным мясом, а если что не так, то можно и высечь.
При этом формируются совершенно незыблемые стереотипы строгости и, напротив, послаблений: в одном случае провозглашаемый аскетизм сопровождается жестокостями и удушением свободы, во втором – свобода осознается прежде всего как свобода от ограничений закона, свобода воровать и проказничать (раз уж раньше все привыкли считать свободу преступлением).
Печальная история Аргентины – это история принципиально нереформируемой популистской элиты. Элита может выступать под маркой популистской авторитарной диктатуры генерала Перона, потом взять на вооружение методы гораздо более грубой военно-полицейской диктатуры, затем вернуть престарелого Перона к власти уже как народного заступника и ультрадемократа, после этого вляпаться в одну из самых жестоких в истории Латинской Америки военных хунт, сместить эту хунту и избрать демократического президента-перониста арабского происхождения.[14 - Основные вехи аргентинской истории 50-90-х гг. XX века.] Но карнавальное разностилье, перепады от произвола и жестокости до анархии – все это остается в рамках неуважительного заигрывания с населением, взаимного жульничества народа и власти, любви-ненависти, веры-разочарования. И никогда не превращается в скучную жизнь по правилам.
Эксперимент под названием «ультралиберальная Аргентина», казалось бы, ничем не отличался от аналогичных экспериментов в соседних и дальних странах. Как и в Чили (Пиночет – «чикагские мальчики»), и в Польше (Валенса – Бальцерович), и в Чехии (Гавел – Клаус), отец аргентинских реформ Доминго Кавалло, действуя под политическим прикрытием популярнейшего президента-перониста Карлоса Менема, пошел на радикальные меры: ввел жесткую привязку местной валюты к доллару, ограничил социальные расходы. Легендарная аргентинская инфляция (по поводу которой в Буэнос-Айресе ходил такой анекдот-быль: садясь в такси, нужно договариваться о плате в момент посадки, а расплачиваться в момент высадки – очень выгодно, ведь за время поездки цена успевает сильно вырасти) вдруг окончилась, экономика зашевелилась, а МВФ записал Аргентину в свои любимцы.
Правда (как выяснилось позже), «ультралиберальные» реформы происходили только в тонком слое: либералы формировали принципы экономической политики, банки меняли песо на доллары один к одному. А вот вся толща государственного аппарата осталась в основном перонистской и стопроцентно популистской. За годы кавалловских реформ небывало вырос государственный аппарат, а крупные госчиновники (во всяком случае, по словам экспертов) восприняли «либерализацию» исключительно как сигнал «обогащайтесь!», посланный им лично.
И в результате политико-экономическая постройка под названием «Аргентина» предстала чем-то опасным и несуразным: «по краям» – хрупкие, но совершенно не гибкие стенки из псевдолиберальных принципов, внутри же – не укрощенная и только прибавившая в своем рвении популистская вольница. Возникает вопрос, вернее, два вопроса: где здесь «поражение либеральных принципов»? и такое могло ли не рвануть?
Нет, аргентинский взрыв никак не тянет на доказательство несостоятельности «пресловутых рецептов МВФ». Более того, были бы «глобалисты» чуть менее политкорректны и не так лояльны своим креатурам, они давно бы могли сделать из аргентинского кризиса яркий и убедительный пропагандистский аргумент в пользу ультралиберализма. Потому что глупо обвинять слона в отсутствии рогов, даже если на его клетке на чистом глобальном английском написано «буйвол».
Однако российско-аргентинские параллели значительно глубже. Потому что, отталкиваясь от аргентинского краха 2001–2002 годов и «кризиса русского либерализма» в его гайдаровском варианте, провозвестники «либеральной модернизации» для России, представленные в начале путинского правления командой, которую общественное мнение связывало с «Центром стратегических разработок» Германа Грефа,[15 - Алексей Кудрин, Герман Греф, Эльвира Набиуллина, Михаил Э. Дмитриев и др.] предложили стране другой вариант. С одной стороны, очень далекий от аргентинского. С другой – близкий ему генетически в своей оторванности от жизни, в своем формализме, продолжающем традиции либерального догматизма гайдаровских времен.
Долгое время пресловутые «свободная Россия» и «шоковые реформы Гайдара» оставались пропагандистскими штампами. Россия не была свободной, реформы Гайдара – шоковыми. Действительно радикальные, неслыханные в истории России по масштабу преобразования затронули основы политической, экономической и повседневной жизни людей. Однако социально-психологическая структура пресловутого «человеческого материала» российских реформ осталась неизменной.
Главной бедой реформаторов «гайдаровского призыва» – той команды, которая осенью 1991 года была сформирована Геннадием Бурбулисом и Алексеем Головковым и из которой вышли Егор Гайдар, Александр Шохин, Анатолий Чубайс, Петр Авен и многие другие, – был советско-интеллигентский догматический формализм, склонность к обожествлению инструментария реформ и – одновременно – к абстрагированию от существа этих реформ, от их конечной цели.
На некоторых, особенно начальных, этапах процесса такой догматизм оказывался полезен: он позволял сконцентрироваться на конкретных промежуточных задачах и сохранять неизменным результирующий вектор политики под мощным давлением многочисленных и сильных оппонентов. Однако даже тогда, поздней осенью 1991 года, уже происходила своего рода подмена понятий. Хотя сами реформаторы достаточно четко определяли либерализацию цен как инструмент преодоления товарного дефицита, логика идейной борьбы тех дней все более склонялась к абсолютизации «отпуска цен», к превращению соответствующего пакета решений из инструмента реформ в их конечную цель.
Та же подмена произошла и немного позже, в 1992–1994 годах, когда состоялась «приватизация по Чубайсу». В ходе этого процесса заявленная цель расслоилась – на массовом уровне говорилось о «двух волгах», на элитном – впрочем, достаточно откровенно и публично – о другой сверхзадаче реформ: любой ценой и как можно скорее сформировать в России слой крупных собственников, которым будет что и будет чем защищать от угрозы коммунистической реставрации и которые возьмут на себя роль локомотива подлинных преобразований. Но и эта, сравнительно более «честная», постановка задачи оказывалась муляжом: на глазах происходило превращение «слоя крупных собственников» из инструментария реформ в их главную цель, а значит, оставались вне контроля и внимания все обстоятельства, связанные с социально-психологической спецификой этого «слоя», обстоятельства, очень быстро конвертировавшиеся в «приватизацию государственной власти», в логику «семибанкирщины» и «олигархии», в слом всех попыток выстраивания последовательной реформаторской стратегии во второй половине 90-х годов.
И на всех этапах, на всех уровнях «гайдаровских реформ» абсолютизация методов вела к забвению цели и уходу от внятной оценки реальных последствий политики. Сталкиваясь с жестоким, недобросовестным по аргументации и социально опасным противостоянием широкого оппозиционного фронта – от радикальных коммунистов до «красных директоров», – реформаторы отметали как несуществующие вместе с нечестными и демагогическими подтасовками «контрреформаторов» и те острые и абсолютно реальные проблемы, которые пронизывали социальную жизнь страны (и не находили при этом адекватного выражения в общественном мнении, в СМИ).
Кроме того, не сумев организовать кадровой революции, которая соответствовала бы по своему масштабу политическим и экономическим переменам, российские реформаторы 90-х годов вынуждены были опираться на партийно-советский кадровый резерв, на людей, не имеющих представления ни о каких технологиях власти и управления, кроме коммунистических. И это трудно поставить им в вину в отличие от стран Восточной Европы и Латинской Америки, Россия так долго находилась под пятой патерналистской власти, что навык самостоятельного, ответственного существования был практически утрачен во всех слоях общества.
Соответственно и размах «либерального беспредела» – глубоко популистского, коммунистического по сути – оказался в России вполне сравним с аргентинским. Причем зачастую некоторые реформаторы были абсолютно всерьез убеждены в своем священном, как частная собственность, праве хапать без конца и без краю, наивно отождествляя уровень достигнутой обществом свободы с собственным правом конвертировать свою причастность к этой свободе в огромные гонорары.
Однако между Россией после 2000 года и Аргентиной – зияющий провал. И провал этот – в размере того скачка, который пришлось бы сделать двум странам в случае успеха модернизации…
Преобразования в Аргентине были попыткой вдохнуть новую энергию в затхлый, неэффективный, полуразложившийся и коррумпированный популистский капитализм. То есть в систему власти и хозяйствования, когда навыки свободной жизни испорчены, опошлены, но никогда окончательно не пресекались. Поэтому то, что сделал Доминго Кавалло под крышей президента Менема, было всего лишь попыткой косметического ремонта. Социальная база аргентинской системы существования осталась без изменений. И очень скоро спровоцированный жесткими экономическими мерами временный подъем окончился пшиком – а вслед за пшиком последовал взрыв.
Российские реформы 90-х стали прологом процессов, которые должны были после 2000 года трансформироваться в подлинную модернизацию страны. Они породили тектонические изменения в социальной психологии, в практике хозяйствования, в самой основе взаимоотношений населения с экономической реальностью. Поэтому и сами «недореформы», и низкое качество политико-экономической элиты – все это было лишь «малой поправкой» к грандиозному процессу, имеющему целью самозарождение нового общества.
Однако «стратегические разработчики» Путина оказались несоразмерны этому масштабу задач. Отличаясь от предшественников – либералов гайдаровского призыва – большей деловитостью и прагматизмом, они были столь же (если не в большей степени) неспособны к адекватному, незашоренному восприятию реальности.
Достаточно четко отслеживая проблемы, связанные с результатами недореформаторской политики ельцинского периода – с отсутствием базы для легализации реформ, с теневым характером управления социально-экономическими процессами в России, «модернизаторы» предъявили стране на рубеже веков новый миф, который был достаточно успешно внедрен и усвоен массовым сознанием в самых разных слоях и группах, на всех уровнях власти и общества.
«Средний класс» в России пытался родиться трижды. В первый раз на эту роль – роль слоя, объединяющего экономически активное, социально солидарное, культурно и ценностно ориентированное население, – претендовало то самое «неноменклатурное большинство» страны, которое обеспечило почти 60-процентную поддержку Ельцину на выборах президента РСФСР и провалило путч ГКЧП. Этот «советский средний класс» объединял практически все образованное население страны: научно-техническую и творческую интеллигенцию, инженерно-технических работников, врачей, учителей, средних и младших офицеров вооруженных сил и правоохранительных органов, квалифицированных рабочих, а также представителей нижнего и среднего уровней партийно-хозяйственной номенклатуры – под знаменитым кавээновским лозунгом 1988 года: «Партия, дай порулить!»[7 - Имелся в виду популярный советский плакат «Партия – наш рулевой». Центральным политическим лозунгом массовых митингов 1988–1990 годов стало требование отмены «шестой статьи» – статьи Конституции СССР, в соответствии с которой коммунистическая партия провозглашалась «руководящей и направляющей силой общества, ядром его политической системы» (реально шестая статья была отменена III съездом народных депутатов СССР в начале 1990 года одновременно с введением поста президента СССР). Вместе с тем следует отметить, что первоначально призыв «Партия, дай порулить!» (автор – участник команды КВН Новосибирского университета Константин Наумочкин) воспринимался как ироничная, но вполне доброжелательная просьба, обращенная к единственному в стране субъекту, имеющему право и возможность «дать порулить».]
Активизация «советского среднего класса» в конце 80-х годов была социально-психологической реакцией на сложившуюся в СССР систему. Система исчерпала свой ресурс самосохранения, оказалась лишена обратных связей: с одной стороны, требования жизни (прежде всего экономическое и военное соревнование с Западом в условиях НТР) обусловили резкий рост квалификации, интеллектуального уровня и, следовательно, самосознания и амбиций «образованного большинства» советского общества, с другой стороны – все рычаги власти, управления, а главное, распределения оставались в бесконтрольном ведении партгосноменклатуры. Более того, даже на демонстрационно-пропагандистском уровне общественной организации (например, квоты на прием в КПСС или на выборы в Советы) сохранялась давно утратившая всякий смысл имитационная дискриминация «советских средних» в пользу якобы «правящего» пролетариата.
Стремление к социальному реваншу, ставшее стержнем общенародного подъема в конце 80-х годов, было окрашено в эмоционально привлекательные тона, поскольку «номенклатура» представала главной и единственной преградой на пути к тотальному улучшению качества и наполненности жизни.
Однако советский средний класс был именно советским средним классом. Несмотря на достаточно высокий культурный уровень, несмотря на активное и подробное общественное обсуждение перспектив перехода от «командно-административной системы» к «рыночному хозяйству», на уровне «коллективного бессознательного» советский средний класс сохранял атавистические, патерналистские представления о роли и месте государства как неограниченного источника власти и благ. Общественное движение конца 80-х годов только силой собственной инерции и политической логики превратилось в «демократическое движение» – довольно долго в массе своей это было в чистом виде движение социального реванша с достаточно примитивной мотивацией: нужно убрать «плохих» людей (то есть «их») и на их место поставить «хороших» (то есть «нас»).
Такое утопическое представление о постсоветском будущем не выдержало столкновения с реальностью. Во-первых, рыночно-демократическая идеология, став официальной идеологией реформ, предложила всем своим сторонникам непопулярные и не рассчитанные на немедленное улучшение жизни меры (прежде всего децентрализацию управления экономикой и либерализацию цен). Во-вторых, и эта, ставшая сразу же достаточно проблемной, идеология столкнулась с практикой «номенклатурного реванша»: даже «плохих людей» из прежней партгосноменклатуры, и тех практически не заменили.[8 - Тема «номенклатурного реванша» активно обсуждалась в СМИ на рубеже 1991–1992 годов. В первые месяцы после августа 1991 года вопросы «деноменклатуризации власти» и «люстрации» (принудительного отстранения от работы в госаппарате деятелей номенклатурно-коммунистического режима по типу «денацификации» в постнюрнбергской Германии) были в центре общественной дискуссии; после завершения (осень 1992 года) процесса в Конституционном суде о правомерности запрета КПСС и после легализации КПРФ тема «номенклатурного реванша» стала уделом маргиналов демдвижения.]
Наступил первый, слабо осознанный, фрустрационный шок – эффект «украденной революции», датируемый последними месяцами 1991 года. В этот момент многомиллионный советский средний класс утратил свое «классовое» единство, так и не став кадровым резервом для новой демократической власти.
Вторая попытка формирования среднего класса в России началась практически сразу же после эмоционального поражения «августовской революции», пока еще не осознанного на смысловом уровне. «Средний класс» второго призыва представлял собой ту большую и наиболее активную часть прежнего советского среднего класса, которая, с одной стороны, оказалась не втянутой во власть и в первые крупные спекуляции общегосударственного уровня, а с другой, не отсеялась на социальную обочину вместе с теми, для кого «номенклатурный реванш» (или «грабительские гайдаровские реформы») стал знаком окончательного поражения идеалов «августа 1991 года».
«Второй средний класс» в наиболее полной мере воспринял в качестве главного жизненного стимула разрушение системы ограничений и запретов, свойственных советскому режиму. Реакцией стала эйфорическая готовность к неограниченному приобретению благ, лозунгом дня – «Я не халявщик, я партнер». Именно из «халявщиков и партнеров» и составился «второй средний класс», в основе массовой психологии которого оставалось советское подсознательное представление о государстве как о неограниченном резервуаре – бесконечном источнике ресурсов, денег, благ, добра и счастья. Только под воздействием такого психологического стереотипа множество образованных и умных людей оказалось готово к игре в общенациональные наперстки – в том числе к вложению денег под полторы тысячи процентов годовых.
Конец «второго среднего класса» растянулся на мучительный год. Он начался в декабре 1993 года в момент сокрушительного поражения «Выбора России» на первых парламентских выборах. Не гиперинфляция весны – лета 1993 года, не октябрьская гражданская война в Москве, а именно празднование «политического нового года», когда «партнеры» впервые, в прямом эфире и на глазах у всей страны осознали, что они и народ – это не одно и то же.
А крах «Властилины», МММ, «Чары» и, как апофеоз процесса, «черный вторник» 1994 года[9 - В этот день, 11 октября 1994 года, произошел обвал курса рубля, ставший вплоть до дефолта 17 августа 1998 года символом угрозы финансовой нестабильности в России.] окончательно разбудили социального лунатика: оказалось, что вместо просторной и торной, залитой солнцем дороги он стоит на краю шаткого карниза в абсолютной темноте.
Третья реинкарнация «среднего класса» начинает формироваться практически сразу же на обломках «черного вторника». Она оказалась куда менее социально однородной и практически лишенной единого культурного кода и группового самосознания. Просто на передний план вышли те люди, которые поняли, что только за то, что они есть и поддерживают курс реформ, никаких денег им никто не должен. «Третий средний класс» объединил осколки «первого»: людей очень широкого спектра доходов и занятий – челноков, журналистов, мелких, средних и чуть более крупных бизнесменов, высокооплачиваемых менеджеров и т. д. Он собственными синяками и шишками прочувствовал, что беспредельного резервуара денег не существует, но сделал из этого парадоксальный вывод – ничего иного тоже не существует.
Именно в этот момент российский политический спектр начал дробиться до бесконечно малых величин, достигнув пика (43 партий) на парламентских выборах 1995 года.[10 - Несовершенство закона о выборах депутатов Государственной думы позволяло создавать партии и блоки быстро и фактически па пустом месте. Из 43 «партийных списков», внесенных в бюллетени в декабре 1995 года, 5-процентный барьер преодолели только четыре – КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» и «Наш дом – Россия», набравшие вместе немногим более 50 % голосов (т. е. не представленными оказались свыше 40 % голосов избирателей).] Именно в этот момент оформилась виртуальная реальность пелевинского романа «Generation П», а Россия стала страной победившего пиара. Именно в этот момент оказалось, что каждый существует в абсолютной пустоте, а уровень дохода определяется исключительно удачей, «фартом».
Третий средний класс достаточно отчетливо ощущал, что он – не народ. Силами издательского дома «Коммерсантъ» он даже попытался дать себе красивое, оригинальное определение – «новые русские» (1994 год), – которое очень скоро по объективным причинам стало анекдотическим. Идеология и психология «фартовых» подмяла под себя и экономику страны, и политику, и их собственное благополучие. Естественным стало включение блатной фени в общеупотребительный словарь элиты, столь же естественными – полная виртуализация журналистского труда, коллапс информационного пространства.
Концом шабаша «фартовых» стал августовский дефолт 1998 года. Вдруг выяснилось, что каждый из успешных, из «фартовых», из тех, кто не сдался, – фактически злоумышленник, долгие годы балансирующий на грани нарушения закона, испытывающий постоянный стресс как от возможности «случайного наказания» (в стране, где неисполнение законов носит характер повсеместного явления, любое сколь угодно мягкое наказание за их невыполнение воспринимается не как «наказание», а только как произвол), так и от собственной «плохости», невозможности жить «нормально», согласуясь с общепринятыми правилами и общественной этикой (за отсутствием таковых). Страну поразил всеобщий стресс, принявший форму общенационального синдрома хронической усталости.
Но к моменту прихода Владимира Путина к власти – на уровне подсознательного ощущения, на уровне интуитивного предвидения – стала возникать какая-то совсем другая Россия. Она обозначилась на фоне утомленной реальности, на фоне деморализованных олигархов, на фоне угрожающей стилистики спецкадров новой власти – и обозначилась очень непривычно: предвестниками нового стиля, нового образа жизни.
ДИАЛЕКТИКА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАНИМАЦИИ
Несмотря на свою электоральную немощь, складывающийся в России «новый средний класс» является единственным возможным зародышем кристаллизации подлинного, самодостаточного и безопасного для людей гражданского общества.
«Новый средний класс» – вернее, его прообраз – имеет все признаки единой, активной и агрессивной социальной страты. Но окружен он со всех сторон абсолютно аморфным обществом. Сутью социально-психологической трансформации послеавгустовской России стала люмпенизация всей страны. Место пролетариата практически повсеместно занял люмпен-пролетариат – объект посулов и шантажа со стороны сменяющих друг друга полубандитских люмпен-акционеров. Ученые, не успевшие податься на зарубежные гранты, и музыканты, не уехавшие на международные гастроли, составили слой люмпен-интеллигенции, у которой сразу же появился свой люмпен-представитель в политическом пространстве: объединение «Яблоко». Муляж информационной реальности принялись клепать люмпен-журналисты, а за их спинами выросли колоссальными мыльными пузырями люмпен-олигархи. И всем этим пытались рулить люмпен-политики, люмпен-администраторы, столь же дезориентированные и депрессивные, как и те, кем они пытались рулить. Все как один не знающие ни своего места, ни своей роли, ни своей соотнесенности с другими членами и группами общества, лишенные представления о личных и групповых интересах, уставшие от свободы и ответственности, элементы несостоявшегося российского общества превратились в те самые пресловутые «деклассированные элементы». И противоречие, возникающее между инфантильным сознанием большинства и самоощущением взрослого активного меньшинства, носит характер глубокого, но, возможно, конструктивного, интенсифицирующего кризиса.
Потому что, с одной стороны, «новые средние» на «генетическом» уровне – преемники, продолжатели и наследники «советской интеллигенции», ее культуры и идеологии. «Новые средние» вырастают из ценностей и представлений «советских средних», не пытаясь подменить их ни халявной эйфорией первых пореформенных лет, ни преддефолтной бандитско-постмодернистской дискредитацией всего и вся в духе Пелевина, Сорокина и профессора Лебединского.[11 - Владимир Сорокин – популярный русский писатель конца XX – начала XXI века, в центре творчества которого находится абсолютизированная пародия, доводящая до абсурда любую – стилистическую, нравственную, идеологическую, политическую – систему. Виктор Пелевин – автор наиболее эффектного популярного образа реальности середины 90-х гг. (романы «Чапаев и Пустота», «Жизнь насекомых», «Generation П»). Профессор Лебединский – автор шансона «Я убью тебя, лодочник», воплотившего господствующую интонацию эпохи.] Но, вырастая из культуры и этики «советской интеллигенции», «новые средние» подводят под ее ценностями и эпохой окончательную черту, преодолевают и отвергают ее ценностную систему, время которой ушло, ради новой, своей, органичной и живой, время которой наступает. А это значит, что, будучи для значительной части населения страны «своими», «понятными», новые средние способны преодолеть социокультурную импотенцию прежних властителей дум, гальванизаторов шестидесятничества.
С другой стороны, «новые средние» по наследству приобретают и врагов, причем статусных, хорошо организованных, претендующих на полученную с самого верха санкцию на «задание вектора стратегии России». Речь идет о наиболее агрессивной части деклассированного большинства. Стоит подчеркнуть, что сам факт наличия «новых средних», став достоянием массового сознания, обеспечивает им самый «теплый» прием со стороны всероссийского держиморды, хотя бы по той простой причине, что «новые средние» куда реальнее и опаснее, чем иллюзорные «жиды» и прочие в очках и шляпах. А это значит, что «новым средним» придется как-то очень-очень быстро собираться и организовываться.
У «новых средних» нет электорального ресурса. Им не хватит ни сил, ни энергии для того, чтобы послужить «тягловой лошадью» процесса социальной реанимации России. Но именно и только «новые средние» обладают мощным ресурсом для роли «задающего генераторa», способного предложить стране новый стиль, новый ритм, новый образ и новые привлекательные ценности.
Именно и только «новые средние» смогут решить несравнимо более важную задачу, чем обеспечение победы той или иной партии на выборах в парламент, – дать толчок для самовоспроизводства новой России на самых разных уровнях. И на политическом – поскольку именно у «новых средних» сосредоточена основная доля национального интеллектуального и существенная доля финансового ресурса, и их первой политической задачей в связи с этим становится вовсе не формирование очередной фиктивной партии, а организация своего рода «политической ярмарки», поскольку если «новые средние» сумеют окончательно самоопределиться и организоваться, все политические партии сразу будут вынуждены искать их поддержки. И на культурном – поскольку именно на «новых средних», основных потребителей товаров и услуг, на их вкусы и предпочтения рассчитана вся сила рекламных мощностей СМИ, а значит, именно они и формируют общенациональный вкус, общенациональную моду. И на международном – поскольку именно «новые средние» (во всяком случае, пока похоже на то) способны предъявить мировому сообществу принципиально новый, нетривиальный и сильный, образ России XXI века.
«Новые средние» не имеют сегодня ни права на ошибку, ни «коридора возможностей». Им необходимо как можно скорее, причем в масштабах всей страны, найти и опознать друг друга. Им необходимо придумать и навязать обществу такую форму своего участия в его делах, которая позволит им перехватить инициативу у многочисленных люмпен-претендентов на роль «новой силы» или «государственной идеологии». И это нужно сделать по той простой причине, что они – «новые средние» – уже есть, а все остальное еще только надо выдумать. Они могут и должны избежать ошибок своих предшественников и ни в коем случае не удариться ни в партстроительство (потому что любая такая попытка обречена на обвальную девальвацию общественного внимания просто в силу того, как сегодня в обществе воспринимается партийная система), ни в новый лоббистский проект. Выдвижение, обсуждение и реализация конкретных социальных инициатив «от имени и по поручению» «новых средних» в сегодняшней России – самая насущная проблема общества. У которого большие проблемы с запасом времени.
ЯБЛОКО ЭВЫ
После 2002 года стало модным сравнивать судьбу российских реформ с реформами аргентинскими. Поводов множество: и специфика взаимоотношений обеих стран (России и Аргентины) с международным сообществом (перепады от любви до ненависти), и попытка в свое время спастись от августовского кризиса 1998 года по рецептам знаменитого аргентинца Доминго Кавалло, продекларированная несостоявшимся правительством Черномырдина – Федорова, и главное, игра на неуверенности в завтрашнем дне (особенно если сегодняшний хотя бы немного лучше вчерашнего).[12 - В конце августа – начале сентября 1998 года, после дефолта и отставки правительства во главе с Сергеем Кириенко, исполняющим обязанности председателя правительства был назначен экс-премьер (1992–1998) Виктор Черномырдин. Идеологом правительства Черномырдина нового образца выступал Борис Федоров, который декларировал радикально-либеральную программу жесткой привязки курса рубля к доллару США. После двукратного отклонения Думой кандидатуры Черномырдина Борис Ельцин выдвинул кандидатуру Евгения Примакова, которую поддержало большинство Думы – коммунисты, «Яблоко» (кстати, именно Явлинский был первым, кто публично предложил назначить премьером Примакова – как «политика, который заведомо не будет претендовать на президентский пост»), «центристы» и деморализованные сторонники бывшей «партии власти» – НДР.]
А главное, аргентинский кризис 2001–2002 годов – это превосходный повод поквитаться для сотен и тысяч «героев вчерашних дней»: советских экономистов, несостоявшихся гуру новой власти, всех тех, кому за эти годы надоели постоянные ссылки на преимущества либерального опыта, будь то чилийский, польский, западногерманский или аргентинский. Ибо главный вывод из аргентинской катастрофы – это необходимость немедленно отказаться от «радикально-либерального курса» экономической команды президента (будь то курс Гайдара, Чубайса или Грефа).
Вывод простой и удобный. Только вот совсем не логичный.
Между Россией и Аргентиной, конечно же, есть большое внутреннее сходство. И это сходство состоит в непропорционально большом весе самых примитивных популистских настроений в структуре национального общественного сознания.
Россия, так и не выведенная Столыпиным за пределы общинной психологии, пережила 70 лет паранойяльного коммунистического коллективизма, при котором в Уголовном кодексе существовал такой состав преступления, как «частное предпринимательство». Что же касается Аргентины, то там все было намного легче, но лишь в той степени, в какой аргентинское танго веселее мрачной мелодии «Вы жертвою пали в борьбе роковой…» Потому что энергии и в «Жертве», и в танго было поровну. С полной самоотдачей погружались и аргентинцы, и русские в такие взаимоотношения между властью и обществом, когда главным событием становится снижение цен (от щедрот товарища Сталина) или массовая раздача подачек (от щедрот Эвы Перон[13 - Эва Перон (1919–1952) – жена генерала Хуана Доминго Перона, президента Аргентины в 1946–1955 и в 1973–1974 гг., дама полусвета и эстрадная артистка. После прихода Перона к власти стала одним из ведущих популяризаторов перонизма – популистской идеологии нового режима. Пользовалась огромной популярностью среди беднейших слоев общества. После смерти осталась «народной любимицей». Впоследствии стала героиней рок-оперы Ллойда Уэббера «Эвита».]).
Главное сходство между Россией и Аргентиной – в умонастроении элит. При всей своей видимой непохожести и коммунисты, и перонисты десятилетиями развращали свой народ и развращались сами, привыкая к социальной безответственности и языческому культу «общества» («народа», «нации»). Отношение к идолу по имени «народ» было именно языческим: его надо задабривать жертвенным мясом, а если что не так, то можно и высечь.
При этом формируются совершенно незыблемые стереотипы строгости и, напротив, послаблений: в одном случае провозглашаемый аскетизм сопровождается жестокостями и удушением свободы, во втором – свобода осознается прежде всего как свобода от ограничений закона, свобода воровать и проказничать (раз уж раньше все привыкли считать свободу преступлением).
Печальная история Аргентины – это история принципиально нереформируемой популистской элиты. Элита может выступать под маркой популистской авторитарной диктатуры генерала Перона, потом взять на вооружение методы гораздо более грубой военно-полицейской диктатуры, затем вернуть престарелого Перона к власти уже как народного заступника и ультрадемократа, после этого вляпаться в одну из самых жестоких в истории Латинской Америки военных хунт, сместить эту хунту и избрать демократического президента-перониста арабского происхождения.[14 - Основные вехи аргентинской истории 50-90-х гг. XX века.] Но карнавальное разностилье, перепады от произвола и жестокости до анархии – все это остается в рамках неуважительного заигрывания с населением, взаимного жульничества народа и власти, любви-ненависти, веры-разочарования. И никогда не превращается в скучную жизнь по правилам.
Эксперимент под названием «ультралиберальная Аргентина», казалось бы, ничем не отличался от аналогичных экспериментов в соседних и дальних странах. Как и в Чили (Пиночет – «чикагские мальчики»), и в Польше (Валенса – Бальцерович), и в Чехии (Гавел – Клаус), отец аргентинских реформ Доминго Кавалло, действуя под политическим прикрытием популярнейшего президента-перониста Карлоса Менема, пошел на радикальные меры: ввел жесткую привязку местной валюты к доллару, ограничил социальные расходы. Легендарная аргентинская инфляция (по поводу которой в Буэнос-Айресе ходил такой анекдот-быль: садясь в такси, нужно договариваться о плате в момент посадки, а расплачиваться в момент высадки – очень выгодно, ведь за время поездки цена успевает сильно вырасти) вдруг окончилась, экономика зашевелилась, а МВФ записал Аргентину в свои любимцы.
Правда (как выяснилось позже), «ультралиберальные» реформы происходили только в тонком слое: либералы формировали принципы экономической политики, банки меняли песо на доллары один к одному. А вот вся толща государственного аппарата осталась в основном перонистской и стопроцентно популистской. За годы кавалловских реформ небывало вырос государственный аппарат, а крупные госчиновники (во всяком случае, по словам экспертов) восприняли «либерализацию» исключительно как сигнал «обогащайтесь!», посланный им лично.
И в результате политико-экономическая постройка под названием «Аргентина» предстала чем-то опасным и несуразным: «по краям» – хрупкие, но совершенно не гибкие стенки из псевдолиберальных принципов, внутри же – не укрощенная и только прибавившая в своем рвении популистская вольница. Возникает вопрос, вернее, два вопроса: где здесь «поражение либеральных принципов»? и такое могло ли не рвануть?
Нет, аргентинский взрыв никак не тянет на доказательство несостоятельности «пресловутых рецептов МВФ». Более того, были бы «глобалисты» чуть менее политкорректны и не так лояльны своим креатурам, они давно бы могли сделать из аргентинского кризиса яркий и убедительный пропагандистский аргумент в пользу ультралиберализма. Потому что глупо обвинять слона в отсутствии рогов, даже если на его клетке на чистом глобальном английском написано «буйвол».
Однако российско-аргентинские параллели значительно глубже. Потому что, отталкиваясь от аргентинского краха 2001–2002 годов и «кризиса русского либерализма» в его гайдаровском варианте, провозвестники «либеральной модернизации» для России, представленные в начале путинского правления командой, которую общественное мнение связывало с «Центром стратегических разработок» Германа Грефа,[15 - Алексей Кудрин, Герман Греф, Эльвира Набиуллина, Михаил Э. Дмитриев и др.] предложили стране другой вариант. С одной стороны, очень далекий от аргентинского. С другой – близкий ему генетически в своей оторванности от жизни, в своем формализме, продолжающем традиции либерального догматизма гайдаровских времен.
Долгое время пресловутые «свободная Россия» и «шоковые реформы Гайдара» оставались пропагандистскими штампами. Россия не была свободной, реформы Гайдара – шоковыми. Действительно радикальные, неслыханные в истории России по масштабу преобразования затронули основы политической, экономической и повседневной жизни людей. Однако социально-психологическая структура пресловутого «человеческого материала» российских реформ осталась неизменной.
Главной бедой реформаторов «гайдаровского призыва» – той команды, которая осенью 1991 года была сформирована Геннадием Бурбулисом и Алексеем Головковым и из которой вышли Егор Гайдар, Александр Шохин, Анатолий Чубайс, Петр Авен и многие другие, – был советско-интеллигентский догматический формализм, склонность к обожествлению инструментария реформ и – одновременно – к абстрагированию от существа этих реформ, от их конечной цели.
На некоторых, особенно начальных, этапах процесса такой догматизм оказывался полезен: он позволял сконцентрироваться на конкретных промежуточных задачах и сохранять неизменным результирующий вектор политики под мощным давлением многочисленных и сильных оппонентов. Однако даже тогда, поздней осенью 1991 года, уже происходила своего рода подмена понятий. Хотя сами реформаторы достаточно четко определяли либерализацию цен как инструмент преодоления товарного дефицита, логика идейной борьбы тех дней все более склонялась к абсолютизации «отпуска цен», к превращению соответствующего пакета решений из инструмента реформ в их конечную цель.
Та же подмена произошла и немного позже, в 1992–1994 годах, когда состоялась «приватизация по Чубайсу». В ходе этого процесса заявленная цель расслоилась – на массовом уровне говорилось о «двух волгах», на элитном – впрочем, достаточно откровенно и публично – о другой сверхзадаче реформ: любой ценой и как можно скорее сформировать в России слой крупных собственников, которым будет что и будет чем защищать от угрозы коммунистической реставрации и которые возьмут на себя роль локомотива подлинных преобразований. Но и эта, сравнительно более «честная», постановка задачи оказывалась муляжом: на глазах происходило превращение «слоя крупных собственников» из инструментария реформ в их главную цель, а значит, оставались вне контроля и внимания все обстоятельства, связанные с социально-психологической спецификой этого «слоя», обстоятельства, очень быстро конвертировавшиеся в «приватизацию государственной власти», в логику «семибанкирщины» и «олигархии», в слом всех попыток выстраивания последовательной реформаторской стратегии во второй половине 90-х годов.
И на всех этапах, на всех уровнях «гайдаровских реформ» абсолютизация методов вела к забвению цели и уходу от внятной оценки реальных последствий политики. Сталкиваясь с жестоким, недобросовестным по аргументации и социально опасным противостоянием широкого оппозиционного фронта – от радикальных коммунистов до «красных директоров», – реформаторы отметали как несуществующие вместе с нечестными и демагогическими подтасовками «контрреформаторов» и те острые и абсолютно реальные проблемы, которые пронизывали социальную жизнь страны (и не находили при этом адекватного выражения в общественном мнении, в СМИ).
Кроме того, не сумев организовать кадровой революции, которая соответствовала бы по своему масштабу политическим и экономическим переменам, российские реформаторы 90-х годов вынуждены были опираться на партийно-советский кадровый резерв, на людей, не имеющих представления ни о каких технологиях власти и управления, кроме коммунистических. И это трудно поставить им в вину в отличие от стран Восточной Европы и Латинской Америки, Россия так долго находилась под пятой патерналистской власти, что навык самостоятельного, ответственного существования был практически утрачен во всех слоях общества.
Соответственно и размах «либерального беспредела» – глубоко популистского, коммунистического по сути – оказался в России вполне сравним с аргентинским. Причем зачастую некоторые реформаторы были абсолютно всерьез убеждены в своем священном, как частная собственность, праве хапать без конца и без краю, наивно отождествляя уровень достигнутой обществом свободы с собственным правом конвертировать свою причастность к этой свободе в огромные гонорары.
Однако между Россией после 2000 года и Аргентиной – зияющий провал. И провал этот – в размере того скачка, который пришлось бы сделать двум странам в случае успеха модернизации…
Преобразования в Аргентине были попыткой вдохнуть новую энергию в затхлый, неэффективный, полуразложившийся и коррумпированный популистский капитализм. То есть в систему власти и хозяйствования, когда навыки свободной жизни испорчены, опошлены, но никогда окончательно не пресекались. Поэтому то, что сделал Доминго Кавалло под крышей президента Менема, было всего лишь попыткой косметического ремонта. Социальная база аргентинской системы существования осталась без изменений. И очень скоро спровоцированный жесткими экономическими мерами временный подъем окончился пшиком – а вслед за пшиком последовал взрыв.
Российские реформы 90-х стали прологом процессов, которые должны были после 2000 года трансформироваться в подлинную модернизацию страны. Они породили тектонические изменения в социальной психологии, в практике хозяйствования, в самой основе взаимоотношений населения с экономической реальностью. Поэтому и сами «недореформы», и низкое качество политико-экономической элиты – все это было лишь «малой поправкой» к грандиозному процессу, имеющему целью самозарождение нового общества.
Однако «стратегические разработчики» Путина оказались несоразмерны этому масштабу задач. Отличаясь от предшественников – либералов гайдаровского призыва – большей деловитостью и прагматизмом, они были столь же (если не в большей степени) неспособны к адекватному, незашоренному восприятию реальности.
Достаточно четко отслеживая проблемы, связанные с результатами недореформаторской политики ельцинского периода – с отсутствием базы для легализации реформ, с теневым характером управления социально-экономическими процессами в России, «модернизаторы» предъявили стране на рубеже веков новый миф, который был достаточно успешно внедрен и усвоен массовым сознанием в самых разных слоях и группах, на всех уровнях власти и общества.