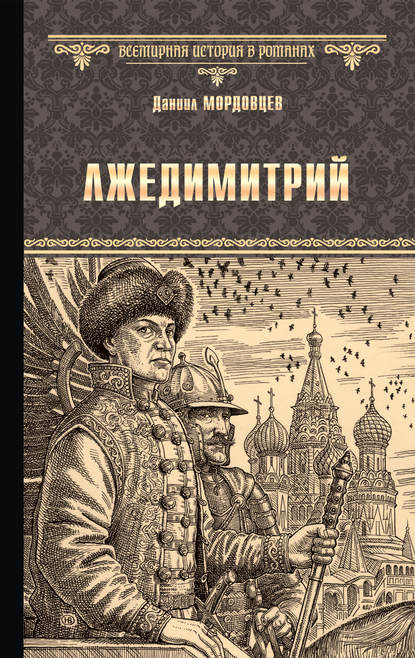По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лжедимитрий
Автор
Год написания книги
1879
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В это мгновенье из-за пригорка показался всадник, скакавший из Самбора. Он держал в руках бумагу.
– Грамота, пане воеводо, грамота! – кричал он.
Пестрая толпа панов, окружив царевича и медведя, не знала, на кого глядеть от изумления: на царевича ли, стоявшего в задумчивости над мертвым зверем, на страшного ли этого зверя или на гонца, привезшего грамоту… Нашелся лишь пан Домарацкий.
– Страшный Борис у ног вашего высочества, – сказал он торжественно. – Это знамение!
VI. Димитрий у короля Сигизмунда
У ворот королевского дворца в Кракове собралась огромная масса народа. Свободная, слоняющаяся без всякого дела разношерстная шляхта с карабелями у бока, в высоких, на металлических подковах бутах, с звенящими шпорами, с заломленными набекрень ухарскими шапками и щеголеватыми чапечками, с ухватками, вызывающими на бой всякого дерзкого, который рискнул бы наступить на шляхетскую мозоль; мастеровые в разноцветных, изодранных, закопченных дымом и лоснящихся от сала и дегтя куртках и штанах; хлопы в белых и пестрых свитках и рубахах; евреи в типичных длиннополых сюртуках и ермолках с историческими пейсами и исторически сладкими, исторически умными, исторически лукавыми и исторически хищными выражениями и очертаниями глаз, носов, губ и подбородков, – все это, словно из гигантского, опрокинувшегося над Краковом горшка, высыпано на площадь в самом невообразимом беспорядке – гудит, шумит, толкается, ругается…
Но более всего толкотни около приземистого, коренастого, с лицом наподобие закопченного сморчка, с свиными, заплывшими слезою глазками и с усами, закрученными в виде поросячьего хвоста, шляхтича, который был, казалось, виновником и душою всей этой сумятицы, который, казалось, сам опрокинул на краковскую площадь этот чудовищный горшок с народом и теперь сам болтается в этой народной каше… Это пан Непомук, который приехал из Самбора в Краков, неизвестно в качестве кого, но только в свите Мнишеков и московского царевича.
– А цо ж, пане, у него есть и войско? – спрашивает оборванный шляхтич, у которого вместо высоких бутов на ногах зияли дырявые женские коты[8 - …женские коты – невысокие кожаные, плетеные или валяные сапоги, иногда с опушкой.], но зато огромная сабля колотилась о мостовую, словно молот кузнеца о наковальню. – Есть у него, пане, армия?
– О! Да у него, пане, десять армий – армия казацкая, армия московская – это две, армия запорожская – это три, армия, пане, татарская – это четыре, армия боярская – это пять, армия пане… армия сибирская – это шесть, армия… армия… э! Да всех армий, пане, и не сосчитаешь, – ораторствует пан Непомук, довольный тем, что его слушают.
– А дукаты у него, пане, есть – пенендзы, ясновельможный пане? – робко интересуется сухой, словно сушеный лещ, еврейчик.
– Дукаты! Га… Да он золотыми дукатами может всех жидов засыпать, как мышей просом, – гордо отвечает Непомук, искоса поглядывая на еврея. – Он мне вчера за то только, что я ему по-рыцарски честь отдал, приказал отослать три корца дукатов.
– Ай-вай! Ай-вай! Какой богатый!
– А вы ж, пане, у его воевода, чи що? – лукаво спрашивает хлоп в серой свитке.
– Нет, я еще не воевода, а как мы возьмем Москву, так он обещал сделать меня воеводою на самой Москве, продолжал беззастенчивый пан Непомук. Вчера он это сказал мне, когда я стоял за его стулом у монсиньора Рангони и подавал тарелки. А монсиньор Рангони и говорит ему: «Рекомендую вам, ваше высочество, пана Непомука: хороший католик и отличный рубака. Он будет у вас бедовым воеводою на Москве». – «О, я давно, – говорит его высочество, – заприметил этого молодца, и как только на себя в Москве корону надену, так пану Непомуку тотчас же дам гетманскую булаву».
– А я, пане гетмане, могу быть у вас на Москве хорошим полковником крулевской стражи, – закручивая усы, сказал шляхтич в женских котах. – Меня лично знал покойный король Баторий[9 - …король Баторий… – Стефан Баторий (1533–1586) – польский король с 1570 г.] (вечная ему память), когда мы с ним брали Вену. Уж и погуляла же тогда вот эта добрая сабля по турецким шеям! А сколько мы, вельможи, попили венгржина, старей вудки! Эх ты, сабля моя верная! Погуляем еще мы с тобой и в Московщине!
И шляхтич в женских котах гордо брякнул своею саблей о мостовую.
В это время по толпе прошел говор: «Едут! едут!» – и все головы обратились в ту сторону, откуда ожидался приезд во дворец невиданного гостя.
Действительно, в отдалении показались всадники. Это был конный отряд, сопровождавший коляску монсиньора Рангони с московским царевичем, а также коляски Мнишеков, Вишневецких и других панов, ехавших ко дворцу в общем кортеже папского нунция.
По мере приближения кортежа головы обнажались. Конники гарцевали молодцевато, с свойственною военным вообще, и польским жолнерам в особенности, рисовкой, с бряцаньем сабель, шпор и прочих металлических принадлежностей воинского люда.
Царевич сидел рядом с монсиньором нунцием в богатой коляске. На открытые головы толпы монсиньор посылал свое пастырское благословение и кланялся. Кланялся и царевич, но неуверенно, робко.
– Виват! Hex жие великий князь Московский! – крикнул пан Непомук.
– Hex жие! Hex жие! – подхватила толпа.
– Hex жие пан нунций!
– Виват! Hex жие!
Кортеж въехал в ворота замка, охраняемые часовыми.
– Ах, Езус-Мария! Какой же он молоденький! – удивлялась старуха с корзинкой за плечами.
– А ты думала, такой же сморчок, как ты, бабуня, – сострил мастеровой со следами полуды на лице. – Ты так, бабуня, стара, что тебя и полудить нельзя.
Во дворце началась аудиенция…
Царевич вошел в королевские покои вместе с нунцием Рангони, с паном Мнишеком, который ни на минуту не покидал его, и с князем Вишневецким. Димитрий шел смело, почти не глядя по сторонам и как бы сосредоточившись на одной мысли. Обнаженная голова его казалась еще более угловатою. По мускулам лица его видно было, что и плотно сжатые губы, и сильно стиснутые, несколько звериные челюсти выражали непреклонную внутреннюю решимость. Глаза, в которых виднелся всегда какой-то двойной блеск, как будто потускнели.
Сигизмунд стоял у маленького столика, на который и опирался левою рукой. Осанка его была величественная, но лицо и глаза смотрели приветливо. В стороне стояли паны в стройном и тоже деланном величии.
Царевич вошел с открытою головою. Не снимая шляпы и приветствуя вошедшего только глазами, полными наблюдательности, король протянул ему руку. Царевич поцеловал эту руку и – смешался. Что думала эта угловатая, упрямая голова, нагибаясь к руке Сигизмунда III? О! Не нагнулась бы она, если бы на ней уже сидела тяжелая, но могучая шапка Мономаха. А ее еще приходится искать…
– Я пришел просить покровительства и защиты вашего королевскаго величества, – начал он тихо, неровным, несколько хриплым голосом. – Сын московскаго царя и наследник московскаго престола, я лишен и престола, и моей родины. Я скитаюсь десять лет, боясь моего собственного имени. Я не смел произнести дорогого каждому человеку имени даже во сне…
Он остановился. Хриплые слова с трудом выходили из горла, сдавленного волнением.
Король молчал. Все молчало кругом.
Как бы отстраняя от себя какой-то ему одному видимый образ, царевич продолжал:
– С детских лет, оторванный от матери, от родных, от наследственного куска хлеба, я, как вор, должен был прятать себя, свою жизнь. О! Тяжело, ваше величество, не сметь даже сказать, что ты не мертвец, чтоб тебя не убили подосланные твоим врагом убийцы. «Убили», «зарезали», «похоронили» меня!.. А я жив, жив, на мою собственную муку… Тот, кто искал моей смерти, занимает теперь мой наследственный трон, трон моего отца, трон моих предков. А я – скитаюсь…
Он опять остановился, как бы подавленный воспоминаньями. Глаза слушателей не отрываются от этой угловатой головы, от этого задумчивого, сосредоточенного лица. Что-то искрится в глазах некоторых из присутствующих, словно бы слезы.
А Сигизмунд упорно молчит. Ему нужна полная исповедь того, кто стоит перед ним.
Как бы чувствуя бессилие своих слов, царевич ищет извлечь эту силу из глубины своего убеждения в правоту своего дела, из глубины неправды, которая тяготеет над ним. Голос его начинает крепнуть, слова бьют резче на слух.
– Ваше королевское величество! Могущественный монарх! Я не ищу моей личной обиды, я не жалуюсь на Бориса за себя. За меня говорит мой народ, мой верный русский народ. Он стонет под немилостивою рукою Годунова: за меня, за мою тень, которая отняла у Бориса сон, проливают кровь моего народа… Ищут мою тень – и мучат, пытают, отравляют ядом, отягощают ссылкой всякаго, кто только произнесет имя этой блуждающей тени… За меня, за мое имя Борис заточил всех Романовых… Мою мать принудили признать труп чужого ребенка за труп сына… Расточили и сослали весь Углич… Ваше величество! Я должен вырвать Московское государство из рук похитителя, я должен защитить мой народ от притеснителя… Для меня нет другой дороги – или могила, или трон московский… Но я и умереть не смею!
Голос его дрогнул. Визгнула какая-то резкая, режущая по нервам нота. Холодное лицо короля как бы согревалось участием…
– Ваше величество! Московские бояре знают о моем спасении, они тайно доброжелательствуют мне, тайно одобряют мои намерения. Вся Московская земля оставит похитителя царской власти и станет за меня, как только увидит, что отрасль их законных царей сохранена Богом… Мне нужно только несколько войска, чтобы войти с ним в московские пределы – и Московское царство будет мое.
А Сигизмунд все молчит. Страшным становится это молчание – тонет надежда, обрываются внутри струны, закипает едкое, жгучее отчаянье. Царевич невольно закрывает глаза рукою. Пропало, все пропало! Her, не все… В груди еще есть голос, чтобы закричать последний раз. О, не все пропало! На плечах еще сидит угловатая голова, а в ней много и воли, и силы, и добра, и злобы.
– Ваше величество! – звучит последняя резкая нота. – Вспомните, что и вы родились узником. Бог освободил вас и ваших родителей – и вы даете мудрые законы и счастье своему народу. Ля – я родился царем, в порфире пеленался и из порфиры выброшен на гноище, прикрыт рубищем. Теперь Бог хочет, чтобы вы освободили меня от изгнания и возвратили мне похищенный врагами престол моего отца…
Все выкрикнуто! Нет больше голосу. А Сигизмунд все молчит – ужасное молчание! Только глаза его добры… еще есть светоч в этой могиле.
Паны переглядываются между собой. В глазах их теплится глубокое сочувствие к тому, что они здесь видели и слышали, – у каждого разбередилось сердце. Ждут, что же скажет король, – всем стало невыносимо тяжело.
От короля ни слова, ни звука. Молча переглянулся он с нунцием, молча дал знак панам, чтобы они все, вместе с царевичем, удалились.
С поникнутою головой вышел царевич из приемного покоя. Углы губ конвульсивно дергаются. И у панов поникнутые головы говорят о том, чему теперь не следовало бы быть…
– Я уверен, Панове, – прервал молчание князь Вишневецкий. – Я уверен, что король, его милость, узнав мнение его святости монсиньора, даст его высочеству обнадеживающий ответ.
– Но как ни словом, ни даже звуком ничего не обнаружить! Такое терпение может быть только у королей! – горячо зазвонил своим звучным голосом, словно саблей, пан Домарацкий. – Ни да, ни нет – ни звука.
– Грамота, пане воеводо, грамота! – кричал он.
Пестрая толпа панов, окружив царевича и медведя, не знала, на кого глядеть от изумления: на царевича ли, стоявшего в задумчивости над мертвым зверем, на страшного ли этого зверя или на гонца, привезшего грамоту… Нашелся лишь пан Домарацкий.
– Страшный Борис у ног вашего высочества, – сказал он торжественно. – Это знамение!
VI. Димитрий у короля Сигизмунда
У ворот королевского дворца в Кракове собралась огромная масса народа. Свободная, слоняющаяся без всякого дела разношерстная шляхта с карабелями у бока, в высоких, на металлических подковах бутах, с звенящими шпорами, с заломленными набекрень ухарскими шапками и щеголеватыми чапечками, с ухватками, вызывающими на бой всякого дерзкого, который рискнул бы наступить на шляхетскую мозоль; мастеровые в разноцветных, изодранных, закопченных дымом и лоснящихся от сала и дегтя куртках и штанах; хлопы в белых и пестрых свитках и рубахах; евреи в типичных длиннополых сюртуках и ермолках с историческими пейсами и исторически сладкими, исторически умными, исторически лукавыми и исторически хищными выражениями и очертаниями глаз, носов, губ и подбородков, – все это, словно из гигантского, опрокинувшегося над Краковом горшка, высыпано на площадь в самом невообразимом беспорядке – гудит, шумит, толкается, ругается…
Но более всего толкотни около приземистого, коренастого, с лицом наподобие закопченного сморчка, с свиными, заплывшими слезою глазками и с усами, закрученными в виде поросячьего хвоста, шляхтича, который был, казалось, виновником и душою всей этой сумятицы, который, казалось, сам опрокинул на краковскую площадь этот чудовищный горшок с народом и теперь сам болтается в этой народной каше… Это пан Непомук, который приехал из Самбора в Краков, неизвестно в качестве кого, но только в свите Мнишеков и московского царевича.
– А цо ж, пане, у него есть и войско? – спрашивает оборванный шляхтич, у которого вместо высоких бутов на ногах зияли дырявые женские коты[8 - …женские коты – невысокие кожаные, плетеные или валяные сапоги, иногда с опушкой.], но зато огромная сабля колотилась о мостовую, словно молот кузнеца о наковальню. – Есть у него, пане, армия?
– О! Да у него, пане, десять армий – армия казацкая, армия московская – это две, армия запорожская – это три, армия, пане, татарская – это четыре, армия боярская – это пять, армия пане… армия сибирская – это шесть, армия… армия… э! Да всех армий, пане, и не сосчитаешь, – ораторствует пан Непомук, довольный тем, что его слушают.
– А дукаты у него, пане, есть – пенендзы, ясновельможный пане? – робко интересуется сухой, словно сушеный лещ, еврейчик.
– Дукаты! Га… Да он золотыми дукатами может всех жидов засыпать, как мышей просом, – гордо отвечает Непомук, искоса поглядывая на еврея. – Он мне вчера за то только, что я ему по-рыцарски честь отдал, приказал отослать три корца дукатов.
– Ай-вай! Ай-вай! Какой богатый!
– А вы ж, пане, у его воевода, чи що? – лукаво спрашивает хлоп в серой свитке.
– Нет, я еще не воевода, а как мы возьмем Москву, так он обещал сделать меня воеводою на самой Москве, продолжал беззастенчивый пан Непомук. Вчера он это сказал мне, когда я стоял за его стулом у монсиньора Рангони и подавал тарелки. А монсиньор Рангони и говорит ему: «Рекомендую вам, ваше высочество, пана Непомука: хороший католик и отличный рубака. Он будет у вас бедовым воеводою на Москве». – «О, я давно, – говорит его высочество, – заприметил этого молодца, и как только на себя в Москве корону надену, так пану Непомуку тотчас же дам гетманскую булаву».
– А я, пане гетмане, могу быть у вас на Москве хорошим полковником крулевской стражи, – закручивая усы, сказал шляхтич в женских котах. – Меня лично знал покойный король Баторий[9 - …король Баторий… – Стефан Баторий (1533–1586) – польский король с 1570 г.] (вечная ему память), когда мы с ним брали Вену. Уж и погуляла же тогда вот эта добрая сабля по турецким шеям! А сколько мы, вельможи, попили венгржина, старей вудки! Эх ты, сабля моя верная! Погуляем еще мы с тобой и в Московщине!
И шляхтич в женских котах гордо брякнул своею саблей о мостовую.
В это время по толпе прошел говор: «Едут! едут!» – и все головы обратились в ту сторону, откуда ожидался приезд во дворец невиданного гостя.
Действительно, в отдалении показались всадники. Это был конный отряд, сопровождавший коляску монсиньора Рангони с московским царевичем, а также коляски Мнишеков, Вишневецких и других панов, ехавших ко дворцу в общем кортеже папского нунция.
По мере приближения кортежа головы обнажались. Конники гарцевали молодцевато, с свойственною военным вообще, и польским жолнерам в особенности, рисовкой, с бряцаньем сабель, шпор и прочих металлических принадлежностей воинского люда.
Царевич сидел рядом с монсиньором нунцием в богатой коляске. На открытые головы толпы монсиньор посылал свое пастырское благословение и кланялся. Кланялся и царевич, но неуверенно, робко.
– Виват! Hex жие великий князь Московский! – крикнул пан Непомук.
– Hex жие! Hex жие! – подхватила толпа.
– Hex жие пан нунций!
– Виват! Hex жие!
Кортеж въехал в ворота замка, охраняемые часовыми.
– Ах, Езус-Мария! Какой же он молоденький! – удивлялась старуха с корзинкой за плечами.
– А ты думала, такой же сморчок, как ты, бабуня, – сострил мастеровой со следами полуды на лице. – Ты так, бабуня, стара, что тебя и полудить нельзя.
Во дворце началась аудиенция…
Царевич вошел в королевские покои вместе с нунцием Рангони, с паном Мнишеком, который ни на минуту не покидал его, и с князем Вишневецким. Димитрий шел смело, почти не глядя по сторонам и как бы сосредоточившись на одной мысли. Обнаженная голова его казалась еще более угловатою. По мускулам лица его видно было, что и плотно сжатые губы, и сильно стиснутые, несколько звериные челюсти выражали непреклонную внутреннюю решимость. Глаза, в которых виднелся всегда какой-то двойной блеск, как будто потускнели.
Сигизмунд стоял у маленького столика, на который и опирался левою рукой. Осанка его была величественная, но лицо и глаза смотрели приветливо. В стороне стояли паны в стройном и тоже деланном величии.
Царевич вошел с открытою головою. Не снимая шляпы и приветствуя вошедшего только глазами, полными наблюдательности, король протянул ему руку. Царевич поцеловал эту руку и – смешался. Что думала эта угловатая, упрямая голова, нагибаясь к руке Сигизмунда III? О! Не нагнулась бы она, если бы на ней уже сидела тяжелая, но могучая шапка Мономаха. А ее еще приходится искать…
– Я пришел просить покровительства и защиты вашего королевскаго величества, – начал он тихо, неровным, несколько хриплым голосом. – Сын московскаго царя и наследник московскаго престола, я лишен и престола, и моей родины. Я скитаюсь десять лет, боясь моего собственного имени. Я не смел произнести дорогого каждому человеку имени даже во сне…
Он остановился. Хриплые слова с трудом выходили из горла, сдавленного волнением.
Король молчал. Все молчало кругом.
Как бы отстраняя от себя какой-то ему одному видимый образ, царевич продолжал:
– С детских лет, оторванный от матери, от родных, от наследственного куска хлеба, я, как вор, должен был прятать себя, свою жизнь. О! Тяжело, ваше величество, не сметь даже сказать, что ты не мертвец, чтоб тебя не убили подосланные твоим врагом убийцы. «Убили», «зарезали», «похоронили» меня!.. А я жив, жив, на мою собственную муку… Тот, кто искал моей смерти, занимает теперь мой наследственный трон, трон моего отца, трон моих предков. А я – скитаюсь…
Он опять остановился, как бы подавленный воспоминаньями. Глаза слушателей не отрываются от этой угловатой головы, от этого задумчивого, сосредоточенного лица. Что-то искрится в глазах некоторых из присутствующих, словно бы слезы.
А Сигизмунд упорно молчит. Ему нужна полная исповедь того, кто стоит перед ним.
Как бы чувствуя бессилие своих слов, царевич ищет извлечь эту силу из глубины своего убеждения в правоту своего дела, из глубины неправды, которая тяготеет над ним. Голос его начинает крепнуть, слова бьют резче на слух.
– Ваше королевское величество! Могущественный монарх! Я не ищу моей личной обиды, я не жалуюсь на Бориса за себя. За меня говорит мой народ, мой верный русский народ. Он стонет под немилостивою рукою Годунова: за меня, за мою тень, которая отняла у Бориса сон, проливают кровь моего народа… Ищут мою тень – и мучат, пытают, отравляют ядом, отягощают ссылкой всякаго, кто только произнесет имя этой блуждающей тени… За меня, за мое имя Борис заточил всех Романовых… Мою мать принудили признать труп чужого ребенка за труп сына… Расточили и сослали весь Углич… Ваше величество! Я должен вырвать Московское государство из рук похитителя, я должен защитить мой народ от притеснителя… Для меня нет другой дороги – или могила, или трон московский… Но я и умереть не смею!
Голос его дрогнул. Визгнула какая-то резкая, режущая по нервам нота. Холодное лицо короля как бы согревалось участием…
– Ваше величество! Московские бояре знают о моем спасении, они тайно доброжелательствуют мне, тайно одобряют мои намерения. Вся Московская земля оставит похитителя царской власти и станет за меня, как только увидит, что отрасль их законных царей сохранена Богом… Мне нужно только несколько войска, чтобы войти с ним в московские пределы – и Московское царство будет мое.
А Сигизмунд все молчит. Страшным становится это молчание – тонет надежда, обрываются внутри струны, закипает едкое, жгучее отчаянье. Царевич невольно закрывает глаза рукою. Пропало, все пропало! Her, не все… В груди еще есть голос, чтобы закричать последний раз. О, не все пропало! На плечах еще сидит угловатая голова, а в ней много и воли, и силы, и добра, и злобы.
– Ваше величество! – звучит последняя резкая нота. – Вспомните, что и вы родились узником. Бог освободил вас и ваших родителей – и вы даете мудрые законы и счастье своему народу. Ля – я родился царем, в порфире пеленался и из порфиры выброшен на гноище, прикрыт рубищем. Теперь Бог хочет, чтобы вы освободили меня от изгнания и возвратили мне похищенный врагами престол моего отца…
Все выкрикнуто! Нет больше голосу. А Сигизмунд все молчит – ужасное молчание! Только глаза его добры… еще есть светоч в этой могиле.
Паны переглядываются между собой. В глазах их теплится глубокое сочувствие к тому, что они здесь видели и слышали, – у каждого разбередилось сердце. Ждут, что же скажет король, – всем стало невыносимо тяжело.
От короля ни слова, ни звука. Молча переглянулся он с нунцием, молча дал знак панам, чтобы они все, вместе с царевичем, удалились.
С поникнутою головой вышел царевич из приемного покоя. Углы губ конвульсивно дергаются. И у панов поникнутые головы говорят о том, чему теперь не следовало бы быть…
– Я уверен, Панове, – прервал молчание князь Вишневецкий. – Я уверен, что король, его милость, узнав мнение его святости монсиньора, даст его высочеству обнадеживающий ответ.
– Но как ни словом, ни даже звуком ничего не обнаружить! Такое терпение может быть только у королей! – горячо зазвонил своим звучным голосом, словно саблей, пан Домарацкий. – Ни да, ни нет – ни звука.