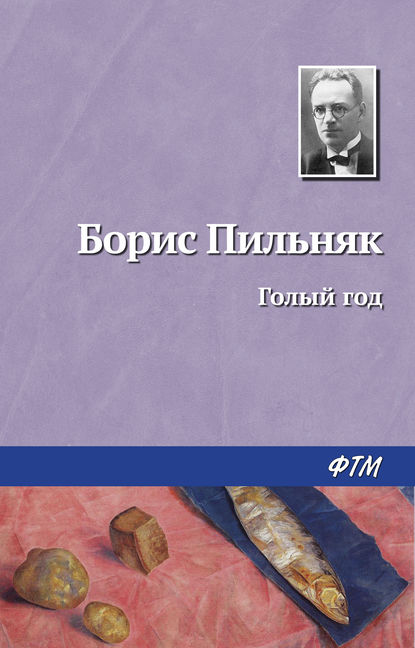По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Голый год
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
и ПРОДчихъ перiюдическихъ
писчебумажныхъ изданiй
А. В. ВАРЫГИНА.
Под рядской иконой Сорока свв. Великомученников помещалась епархиальная торговля. У рядской иконы служили столько молебнов, сколько было именин у рядских купцов. В епархиальной лавке иконы не покупались, а выменивались: меняльщик покупал новый картуз, клал в него деньги и менял картуз на икону, картузы шли в духовное, училище. Заведывал епархиальной торговлей о. Левкоев, мечтавший, по примеру Иисуса Христа, учредить рыболовное братство и на общем собрании обсудить давно назревший вопрос о том, как ставить лодки на рыбной ловле: – на камнях, якорях или привязи? В епархиальной лавке играли в шашки, и собиралась интеллигенция – Бланманжов, А. В. Варыгин. Клуб же коммерческий был у мыльника Зяброва, любителя пожаров. У него всегда сидели «аблокаты» и языки (слово и дело!): аблокаты писали кляузы и бумаги, языки свидетельствовали все, что угодно. По рядам таскались нищие, юродивые, – Зябров над ними «измывался»: зимами примораживал слюной к каменному полу серебряные пятаки и приказывал нищим отдирать их зубами в свою пользу, летом предлагал за гривенник выпить ведро воды (дурачок Тига-Гога выпивал) или устраивал гонки, точно на пожарном параде. Потешался Зябров и над прохожими: выкидывал за дверь часы на нитке, бросал конфетные коробки с тараканами или с дохлой крысой. В каменных рядах было темно, сыро, пахло крысами, гнилыми кожами, тухлыми сельдями.
Иван Емельянович Ратчин, высокий, худой, в ватном картузе, приходил в свою лавку без пяти минут семь, гремел замками и поучал мальчиков и приказчиков своему ремеслу: надо было при покупателях говорить:
не – дают, а скалывают,
не – уступить, а сколоть,
не – продавай, а прикалывай,
не – торгуйся, а божись,
не—150 руб. 50 коп., а арци-иже-он-кон иже-он-кун,
не – 90, а твердо-он.
Покупателям надо было двери отворять и за ними двери затворять: не обмеришь, не обманешь – не продашь. Иван Емельянович уходил в конторку, щелкал на счетах, читал вслух библию, в конторку же призывал и провинных (а мальчиков и без вины) и, под вечной лампадой, проучивал, смотря по вине: или двуххвосткой, или вологой. В двенадцать приходил хлебник: давал на хлебника приказчикам пятак, а мальчикам три копейки, выходил к о. Левкоеву поиграть в шашки, по гривеннику партия, – обыгрывал всех молча: чёской заниматься не любил. С покупателями говорил строго, только с оптовыми.
Запорка была половина восьмого, а в восемь по рядам бегали волкодавы, рядские собаки. В девять город засыпал, и на вопрос:
– Кто идет? —
надо было отвечать, чтобы не угодить в участок:
– Обыватель!..
В доме (за волкодавами у каменных глухих ворот) Ивана Емельяновича Ратчина было безмолвно, лишь вечером из подвала, где жили приказчики с мальчиками, неслось придавленное пение псалмов и акафистов. Дома у приказчиков отбирались пиджаки и штиблеты, а у мальчиков штаны (дабы не шаманались ночами), и сам Иван Емельянович регентовал с аршином в руке, которым «учил». В подвале окна были с решетками, лампы не полагалось, горела лампада. Вечером, за ужином, Иван Емельянович сам резал во щах солонину, первый зачерпывал щи деревянной ложкой, зевавших бил ею по лбу, и солонину можно было брать, когда сам говорил:
– Ешь со всем!
Ивана Емельяновича звали не иначе, как – сам и папаша. Жили под пословицею: «Папаша придет – все дела разберет». (Пословица гласит: «Дело не наше, сказала мамаша, папаша придет – все дела разберет».) Была у Ивана Емельяновича дебелая жена, гадавшая на кофе о червонном короле, но в постель с собой клал Иван Емельянович не ее, а Машуху, доверенную ключницу. Перед сном у себя в душной спальне Иван Емельянович долго молился, – о торговле, о детях, об умерших, о плавающих и путешествующих, – читал псалмы. Спал чутко, мало, – по-стариковски. Вставал раньше всех, со свечою, снова молился, пил чай, приказывал – и уходил на весь день в лавку. Дома без него было легче (быть может, потому, что это был день?), и из коморок выползали к «самой» приживалки. Каждую субботу после всенощной Иван Емельянович порол своего сына Доната. На Рождество и на Пасху приезжали гости– родня. 24 июня (после пьяной Ивановой ночи!), в день именин, на дворе нищим устраивался обед. В прощеное воскресенье приказчики и мальчики кланялись Ивану Емельяновичу в ноги, и он говорил каждому:
– Открой рот, дыши! – чтобы учуять водочный запах.
Так, между домом, лавкой, библией, поркой, женой, Машухой, – прошло сорок лет. Так было каждый день – так было сорок лет, – это срослось с жизнью, вошло в нее, как вошла некогда жена, вошли дети, как ушел отец, как пришла старость.
Сын Ивана Емельяновича, Донат, родился мальчиком красивым и крепким. В детстве у него было все: и бабки, и чушки, и купанье на реке у перевозчика, и змеи с трещоткой, и голуби, и силки для щеглят, и катанье на простянках, и покупка-продажа подков, и кулачные бои, – это было в дни, когда, за малым его ростом, Доната не замечали. Но к пятнадцати годам Иван Емельянович его заметил, сшил ему новые сапоги, картуз и штаны, запретил выходить из дома, кроме как в училище и церковь, следил, чтобы он научился красиво писать, и усиленно начал пороть по субботам. Донат к пятнадцати годам возрос, кольцами завились русые кудри. Сердце Доната было создано к любви. В училище учитель Бланманжов заставлял Доната, как и всех учеников, путешествовать по карте: в Иерусалим, в Токио (морем и сушей), в Буэнос-Айрес, в Нью-Йорк, – перечислять места, широты и долготы, описывать города, людей и природу, – городское училище было сплошной географией, и даже не географией, а путешествием: Бланманжов так и задавал: выучить к завтраму путешествие в Йоркшир. И в эти же дни расцвела первая любовь Доната, прекрасная и необыкновенная, как всякая первая любовь. Донат полюбил комнатную девушку Настю, черноокую и тихую. Донат приходил вечерами на кухню и читал вслух Жития свв. отец. Настя садилась против, опирала ладонями голову в черном платочке, и – пусть никто кроме нее не слушал! – Донат читал свято, и душа его ликовала. Из дома уходить было нельзя, – великим постом они говели и с тех пор ходили в церковь каждую вечерню. Был прозрачный апрель, текли ручьи, устраивались жить птицы, сумерки мутнели медленно, перезванивали великопостные колокола, и они в сумерках, держась за руки, в весеннем полусне, бродили из церкви в церковь (было в Ордынине двадцать семь церквей), не разговаривали, чувствовали, чувствовали одну огромную свою радость. Но учитель Бланманжов тоже ходил к каждой вечерне, приметил Доната с Настей, сообщил о. Лев-коеву, а тот Ивану Емельяновичу. Иван Емельянович, призвав Доната и Настю и задрав Настины юбки, приказал старшему приказчику (при Донате) бить голое Настино тело вологами, затем (при Насте), спустив Донату штаны, порол его собственноручно, Настю прогнал в тот же вечер, отослал в деревню, а к Донату на ночь прислал Машуху. Учитель Бланманжов заставил Доната на другой день путешествовать через Тибет к Далай-Ламе и поставил единицу, потому что к Далай-Ламе европейцев не пускают. Тот великий пост, с его сумерками, с его колокольным звоном, тихие Настины глаза – навсегда остались прекраснейшими в жизни Доната.
Вскоре Донат научился у приказчиков лазить ночами в форточку, через выпиленную решетку и через забор в город, в Ямскую слободу, в «Европу». Стал ходить с отцом за прилавок. По праздникам рядился, ходил гулять на Большую Московскую. Сдружился с иеромонахом Белоборского монастыря о. Пименом; летом заходил к нему ранними, росными утрами, вместе купались в монастырском пруде, гуляли по парку, затем в келий, за фикусами, под канарейкой, в крестах и иконах, выпивали черносмородиновой, о. Пимен рассказывал о своих богомолицах и читал стихи собственного сочинения, вроде следующего:
О, дево! крине рая!
Молю тя, воздыхая:
Воззри на мя умильно,
Тя возлюбил бо сильно!
Вот продолжение стихотворения:
Чернец аз есмь смиренный, Тебе аз, грешный Пимен,
Зело в тя влюбленный, Молю лобзанье дати.
Забывый об обете В субботу аз тя ждати
(Держи сие в секрете!) У врат священных буду…
И, аще не противен Затем ……… порнография.
Иногда к ним примыкали и другие монахи, тогда они шли в потаенное место, в башню, посылали мальчишек за водкой, пили и пели «Коперника»(«Коперник целый век трудился…») и «Сашки-канашки» с припевом на мотив «Со святыми упокой». Иногда вечерами о. Пимен надевал студенческую куртку, и они с Донатом отправлялись в цирк. Монастырь был древен, с церквами, вросшими в землю, с хмурыми стенами, со старыми звонницами, – и Пимен же рассказывал Донату о том, что есть в мире тоска. Пимен же познакомил Доната с Урываихой: июньскими бессонными ночами, перебравшись через забор, с бутылкой водки, Донат шел к затравленной, сданной купцами под опеку, красавице вдове миллионера-ростовщика Урываева, стучал в оконце, пробирался через окно в ее спальню, в двухспальную постель. Любились страстно, шептались – говорили – ненавидели – проклинали. Ростовщик Урываев – семидесятилетним – семнадцатилетней взял Оленьку в жены, для монастырского блуда, вытравил в ней все естественное, умирая завещал ей опеку. Красавица-женщина спилась, кликушествовала: город ее закорил, «замудровал»…
Но и эта последняя любовь Доната была недолгой, – на этот раз донес, донос в стихах написал поэт-доносчик А. В. Варыгин.
Кто знает?
Кто знает, что было бы с Донатом?
В 1914 году, в июне, в июле горели красными пожарами леса и травы, красным диском вставало и опускалось солнце, томились люди в безмерном удушии.
В 1914 году загорелась Война и за ней в 1917 году – Революция.
В древнем городе собирали людей, учили их ремеслу убивать и отсылали – на Беловежские болота, в Галицию, на Карпаты – убивать и умирать. Доната угнали в Карпаты. В Ордынине провожали солдат до Ямской слободы.
Первым погибнул в городе Огонек-классик, честный ярыга, спившийся студент, – умер, – повесился, оставив записку:
«Умираю потому, что без водки жить не могу. Граждане и товарищи новой зари! – когда класс изжил себя – ему смерть, ему лучше уйти самому.
Умираю на новой заре!»
Огонек-классик умер пред новой зарей.
В девятьсот шестнадцатом году провели мимо Ордынина к заводу железную дорогу, – и последний раз схитрили купцы, «отцы города»: инженеры предложили городу дать взятку, и отцы города изъявили на то полное свое согласие, но назначили столь несуразно мало, что инженеры почли долгом поставить станцию в десяти верстах, на заводе. Поезда пробегали мимо города, как угорелые, – и все же первый поезд встречали обыватели, как праздник, – вываливали к Вологе, а мальчишки для удобства залезали на крыши и ветлы.
И первый поезд, который остановился около самого Ордынина, – это был революционный поезд. С ним вернулся в Ордынин Донат, полный (недоброй памяти!) воспоминаний юношества, полный ненависти и воли. Нового Донат не знал, Донат знал старое, и старое он хотел уничтожить. Донат приехал творить – старое он ненавидел. В дом к отцу Донат не пошел.
По древнему городу, по мертвому Кремлю ходили со знаменами, пели красные песни, – пели песни и ходили толпами, когда раньше древний, канонный купеческий город, с его монастырями, соборами, башнями, обулыженными улицами, глухо спал, когда раньше жизнь теплилась только за каменными стенами с волкодавами у ворот. Кругом Ордынина лежали леса, – в лесах загорались красные петухи барских усадеб, из лесов потянулись мужики с мешками и хлебом.
Дом купца Ратчина был взят для Красной гвардии. В доме Бланманжова поселился Донат. Донат ходил всюду с винтовкой, кудри Доната вились по-прежнему, но в глазах вспыхнул сухой огонь – страсти и ненависти. Соляные ряды разрушили. Из-под полов тысячами разбегались крысы, в погребах хранилась тухлая свинина, в фундаментах находили человеческие черепа и кости. Соляные ряды рушились по приказу Доната, на их месте строился Народный Дом.
Вот и все.
Вот еще что (кому не лень, иди, посмотри!): каждый день в без пяти семь утра к новой стройке Народного Дома, как раз к тому месту, где была торговля «Ратчин и Сын», приходит каждый день древний старик, в круглых очках, в ватном картузе, с иссохшей спиной, с тростью, – каждый день садится около на тумбу и сидит здесь весь день, до вечера, до половины восьмого. Это – Иван Емельянович Ратчин, правнук Дементия.
В городе – голод, в городе скорбь и радость, в городе слезы и смех. Над городом идут весны, осени и зимы. По новой дороге ползут мешочники, оспа и тиф.
На кремлевских ордынинских воротах уже не надписано:
Спаси, Господи,
Град сей и люди твоя