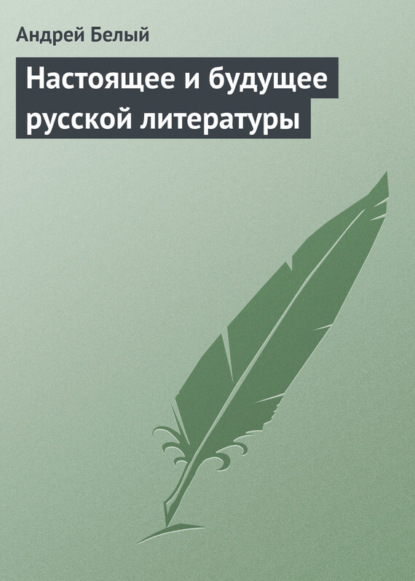По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Настоящее и будущее русской литературы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Голодно, родименький, голодно[7 - Строки из «Песни убогого странника» в поэме Н. А. Некрасова «Коробейники» (1861).].
Во всяком случае, странники Некрасова уже на шеломени, а один из странников, Влас, – тот прямо перешел за черту положенного, и далеко протянулся его путь: он протянулся за горизонт наших догматов к «светлому граду жизни». Как странно: туда же протянулся путь русского интеллигента, начитавшегося западных символистов, – путь Александра Добролюбова[8 - А. М. Добролюбов, поэт-символист, около 1900 г. порвал со своим окружением и ушел «в народ»; странствовал, одно время жил в Соловецком монастыре. Белый соотносит фигуру Добролюбова с героем некрасовского стихотворения «Влас» (1854), мужиком-грешником, который имел «видение» и во исполнение своего обета раздал имущество и сделался странником.]: уже девять лет вместе с Власом идет он к «светлому граду новой жизни». Этот одинокий образ русского символиста, поборовшего нашу трагедию, не может не волновать нас: мы тоже пойдем, мы не можем топтаться на месте: но… – куда пойдем мы, куда?
Как символично признание Льва Толстого, не интеллигента вовсе и не декадента, конечно: Лев Толстой признается, что у него нет добролюбовской силы; оттого-то не разрывает с прошлым Лев Толстой; оттого-то религиозные искания Толстого не разрешаются в религиозном действии, а только в моральной проповеди, только в глухой забастовке[9 - Вскоре Белый опишет уход и смерть Л. Толстого именно как религиозное действо (см. Белый А. Трагедия творчества: Достоевский и Толстой. – Наст. изд.).].
Как не похож он на Достоевского, который хотел дело, и не далось ему дело: он был ослеплен видением религиозного будущего и устами Зосимы ответил на будущее это: «Буди, буди»[10 - Имеется в виду глава «Буди, буди!» из «Братьев Карамазовых» Ф. М. Достоевского (ч. 1, кн. 2, гл. V), где старец Зосима утверждает неизбежность преображения христианского общества «во единую вселенскую и владычествующую церковь».]. А когда повернулся к действительности, в глазах у него пошли темные круги: эти круги перенес он на лица русских интеллигентов, еще не имеющих подлинной религиозной реальности, но уже пролагающих к ней пути: этих интеллигентов назвал он «бесами». И они ответили ему: «жестокий талант». Интеллигенция долго не хотела принять Достоевского. Достоевского с ней черт попутал: интеллигенция видела Достоевского в черном свете, а он – ее. Черное оказалось между ними.
Но невероятный, не объяснимый никакою платформой и ныне уже совершившийся факт, а именно, признание Достоевского – не показывает ли это признание, что мы и он – одно: мы называем стремления наши именем догмата, он – именем Бога: но мы с ним, он среди нас, и что-то третье, живое между нами. Значит, и мы – народны: так же глубоко мы народны, как глубоко народен Достоевский. Признанием Достоевского русская интеллигенция признала свою религиозную связь с народом.
Это признание отразилось на судьбах современной русской литературы.
Слишком много увидел в будущем Достоевский. Но в окружающей действительности ничего не увидел, все перепутал Достоевский-горожанин: голодные деревеньки, полынь и овраги русской действительности (много оврагов) не волновали его: благоговейно склоняемся мы перед исповедью Некрасова: «Мать-отчизна! Дойду до могилы, не дождавшись свободы твоей… Но желал бы… чтобы ветер родного селенья звук единый до слуха донес, под которым не слышно кипенья человеческой крови и слез». И наша молодежь десятилетия внимала этим словам: молодежь осмеял Достоевский в безобразной пародии на то, как русский народ «от Тамбова до Ташкента с нетерпеньем ждал студента»[11 - Неточная цитата из «Бесов» Ф. М. Достоевского (ч. 2, гл. 6). В романе – «От Смоленска до Ташкента».]. Повторяю: Достоевский был слеп тут: его ослепило будущее: и все-таки молодежь приняла Достоевского.
Если приняла его, то примет и то, о чем кричал Достоевский (ведь он – «не во имя свое»), пойдет туда, куда призывал Достоевский: к религиозному будущему нашей страны.
Русская интеллигенция не видела того, что открылось Достоевскому в будущем; но русская интеллигенция видела и слышала то, чего не видел и не слышал Достоевский в настоящем: видела овраги российской низменности и странника, слышала его голос в полях:
Холодно, странничек, холодно,
Голодно, родименький, голодно.[12 - Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Что ни год, уменьшаются силы» (1861). Белый взял это стихотворение эпиграфом к своей книге стихов «Пепел» (1909).]
Достоевский сумел религиозно осветить будущее народа. Но связи будущего с настоящим не нашел: остался без почвы. Русская интеллигенция сумела в настоящее внести религиозное отношение: заботы о хлебе народном разожгла она в жертвенный огонь; вся она – борьбы розовой жертва; жертвовать можно только не во имя свое: и хлеб земной русская интеллигенция непроизвольно превратила в символ. Достоевский имел символическое видение: «град новый»[13 - «град новый» – Откр. 21.]. Вот почему приблизил он к нам образы Апокалипсиса. Но может ли спуститься на землю видение «града»; может ли облачное видение стать хлебом насущным? Символы русской интеллигенции имели другую форму, нежели символы Достоевского. Была ли за теми и другими соединяющая их реальность? Да, была: потому что Достоевский и русская интеллигенция встретились теперь независимо от формы культов. Культ русской интеллигенции оформился ныне в молитвах о хлебе насущном для народа: форма этого культа претила Достоевскому; он называл этот культ «беснованием». Культ Достоевского оформился в проповеди православия: форму этого культа русская интеллигенция определила как «мракобесие». Мракобесие столкнулось с беснованием и неожиданно слилось, неожиданно встретилось в наших сердцах сокровенное, тайное этих форм: и тогда оказалось в глубине религиозного опыта, что мракобесие Достоевского – личина, что вовсе не православен он, что и он – о хлебе народном; беснование русской интеллигенции оказалось молитвой к дальнему.
Ныне не боимся мы беснования, как вовсе не устрашает нас уже сила мракобесия. Так изгоняем мы беса из сердца русской действительности на поверхность ее: отрицая догматы православия, принимаем религиозные символы; отрицая догматы марксизма, принимаем символы преображения земли.
Так сомкнулись две линии в одну: русская литература с русской жизнью, слово с плотью. Но тут же мы поняли, что пересечение обеих линий – впереди, в будущем: мы поняли только то, что пересечение возможно: продолжая общественность за горизонт догматизма, мы видим, что оправдание ее – в религии; продолжая историческую религию за горизонт прошлого, мы видим, что оправдание ее – не в истории вовсе. В свете искомого соединения религиозные догматы претворяются, в символы жизненных ценностей, а догматы русской интеллигенции претворяются в живые символы религии.
Русской литературе открывается новая жизнь; русской жизни дается новое слово, творческое, действующее слово. Старая жизнь перестает быть жизнью; русская литература – не вовсе литература. К этому мы пришли только теперь. Но не то было в недавнем прошлом. В недавнем прошлом, после Достоевского, литература иссякает – прежняя, тенденциозная, живая: кряж ее обрывается (Короленко, Горький): она обращается к перепеву; правда, она выдвигает новые общественные элементы, новые мотивы: но она не несет новой живой проповеди; и тенденция в русской литературе все более и более вырождается или иссякает вовсе; это потому, что самые важные, самые нужные слова о деле сказаны, а дела – нет.
И там, где иссякает тенденция, проповедь, – расцветает пышно стилистика, развивается форма: что заменяется как. «Как умело выражается Чехов, как говорят, двигаются его герои», – восхищаемся мы: но что ведет их, что несут они нам – мы не знаем: в слове выражается их как, в немоте их что и для чего: еще шаг – и слова потеряют смысл, еще шаг – и слова превратятся в музыку, а литература – в новый смычок в симфоническом оркестре.
Еще шаг – и соборность нашей литературы сменится крайним индивидуализмом. Так и случилось.
«De la musique avant toute chose» – раздается в России лозунг Верлена[14 - «De la musique avant tout» (франц.) – «о музыке прежде всего». Из стихотворения П. Вердена «Art po?tique» («Искусство поэзии»). Один из девизов символизма.].
Никогда на Западе тенденциозная проповедь не была так иррациональна, как в России; литературный рационализм заел беллетристику Запада; и потому-то в западной литературе поднялся бунт против литературного рационализма. Литература Запада старее литературы русской; реальные заслуги ее – в ряде технических завоеваний; техника в ней реальнее проповеди. Проповедь засыпала личность на Западе мертвыми словами. И восстала личность на мертвое слово: личность тогда в слове увидела музыку, в бессловесном увидела она жизнь. Техника соединилась с музыкой; слова обернулись в символы: песни без слов. Литературная техника стала клавиатурой песни: индивидуализм подал руку академизму в борьбе с холодной жизненностью: живое предстало в мертвом саване.
И пока происходило на Западе такое оборотничество, мы не имели времени вглядеться в личину оборотня: в оборотней мы не верили; и мы не верили в жизненность символизма; да и кроме того: слишком были мы заняты нашей родною болью, нашим огненным словом литературы: в преемниках Толстого, Достоевского и Некрасова чтили мы великих учителей, не замечая налета мертвенности в позднейшей литературной проповеди; в потухающих углях мы видели пламя, в теплой золе – летучий дым.
И только тогда мы очнулись, когда первая фаланга победоносного войска индивидуалистов предстала пред нами с лозунгами: «Ницше, Ибсен, Уайльд, Метерлинк, Гамсун». «Что это – войско призраков?» – воскликнули мы, но призраков и нет вовсе. А между тем символисты Запада скинули маску, превратились в проповедников, проповедников иного, им неведомого совершенства: они несли культ личности в жизнь, культ музыки в поэзию, культ формы в литературу[15 - Разумеется, в 1907 г. Белый не мог предвидеть, какие социально-культурные последствия вызовет в России ренессансно-романтический культ личности, наложившись на отечественную харизматическую и эсхатологическую духовно-историческую почву.].
И первые перебежчики войска призраков, русские символисты, казались нам выходцами с того света, мертвецами, изменниками; в мелодии их слов мы слышали только безумие, в проповеди формы – холодное резонерство, в признании личности – эгоизм. «Это царское платье», – кричали мы: царское платье царским платьем не оказалось, – но платьем оказалось оно, и хорошим платьем. Казалось, над линией русской литературы обозначилась новая линия, без связи с прежней. Тогда с большим воодушевлением присягнула русская интеллигенция полумертвой общественной тенденции в русской литературе, с негодованием прокляла она войско призраков символизма.
По граням соприкосновения двух литературных течений, призрачного и реального, закипела борьба. Она началась огульным хохотом по адресу призраков (или декадентов, как их тогда называли)[16 - Так называют символистов и поныне; это бессмысленное прозвище укоренилось теперь, когда обнаружилось, что декаденты – это те же романтики, классики, визионеры, равно как и академисты прежнего времени.]; но призраки заявили о своем действительном существовании; ничтожная горсть декадентов на хохот ответила вызовом, на полемику – полемикой. Против знамени Некрасова, Горького, Чехова, Гл. Успенского выдвинули западноевропейские знамена, и притом так, что скоро умолк хохот русской критики, сменяясь откровенной бранью и улюлюканьем; над призраками посмеялись, но они взяли и воплотились. А русская интеллигенция, перед которой происходила борьба, обратилась к новым знаменам, отвертываясь от знаменосцев; приняла Ницше и Ибсена, не видя Брюсова, Мережковского и Бальмонта: получилось впечатление, будто знамена индивидуализма прискакали в Россию сами на своих древках, так что русская интеллигенция думала потом, что сама она внесла в Россию культ индивидуализма.
В эпоху этой борьбы вырос Л. Андреев, отразивший в себе обе тенденции русской литературы – социальную и декадентскую, реальную и призрачную; не слияние, а смешение, не единство, а параллель: эта параллель того, что есть, и того, что кажется неосуществимым символически, отобразилась у него в рассказе «Призраки»[17 - В рассказе Л. Андреева «Призраки» (1904) речь идет о пациентах сумасшедшего дома с их раздвоенным сознанием.]. Смешение двух миросозерцании не изгладилось с ростом его таланта: вот почему идейный хаос нарисовал ему картину жизненного хаоса. Л. Андреев – талантливый выразитель неопределенности: как будто он одновременно рос в Двух враждебных лагерях. В нем – перемирие двух миросозерцании, не соединение вовсе.
Русские декаденты остались чуждыми русскому обществу, но слова их о новом Западе вошли в плоть и кровь современной молодежи. С ними борются, но о западной литературе говорят их словами. «Мир Искусства» ругали, однако зачитывались Ницше. Декадентов ругают доныне, забывая, что с Гамсуном, Пшибышевским, Уайльдом, Метерлинком, Верхарном познакомили они; часто видишь теперь, как поклонники Ведекинда грудью стоят за этого писателя перед декадентами, забывая, что еще пять лет тому назад русские декаденты уже видели в нем серьезную величину.
Можно сказать, что всю программу домашнего чтения русского интеллигента по Западу составили часто ругаемые русские символисты: их ругают, но говорят их словами. Между тем в русском символизме произошла существенная перемена, обратная той, которая произошла в русской интеллигенции.
В то время как русская интеллигенция увлекалась чтением Уайльда, Гамсуна, Ибсена, Метерлинка, русские символисты по-новому осветили русскую литературу от Пушкина до Достоевского. В литературных вкусах русской интеллигенции водворился интернациональный адогматизм и индивидуализм. В литературных вкусах русских символистов углубилась старая, тенденциозная, национальная литература.
Западноевропейский индивидуализм в Мережковском и Гиппиус прикоснулся к Достоевскому, в Брюсове прикоснулся к Пушкину и Баратынскому, в Сологубе – к Гоголю, в Ремизове – к Достоевскому и Лескову. Ницше встретился с Достоевским, Бодлер и Верхарн – с Пушкиным (в Блоке), Метерлинк – с Лермонтовым и Вл. Соловьевым, Пшибышевский – с Лесковым (в Ремизове). Беспочвенное декадентство пустило корни в литературную почву народного духа. Оно перекинуло мост от Запада к Востоку. Не эпигоны оказались преемниками заветов лучшего прошлого. Пришли чужие и добровольно взвалили на плечи драгоценное наследство прошлого.
Что же делали в это время эпигоны тенденциозности? Продолжали отказываться от литературной «нечисти» Запада, все время заимствуя у этой «нечисти» литературные краски. Я не стану здесь называть имена тех, кто, экспроприируя форму, и доныне открещивается от экспроприируемых; одной рукой вырывает сорные плевелы в храме литературы, другой рукой украшается этими плевелами: одна рука – не ведает, что творит другая.
Индивидуализм на Западе вырастал по мере того, как мертвые формы жизни закрепощали личность. Действие равно противодействию: жизнь связывала личность; личность расцветала вне жизни. Смысл слов превратили в ходячие монеты: и смысл слова перелился в музыку. И только на крайних вершинах индивидуализма Ницше понял, что смысл в музыке, в ритме жизни: так возникла религия личности; только эта форма религии на Западе оказалась живой формой.
В России не выпрямлялась личность, не отливалась в формы, но одна форма равно придавила всех: не многообразие форм – единообразие задавило нас. Нас задавила – одна ледяная равнина. У нас – один общий враг. И тайны многих – одно: одинаково втайне перекликаемся мы друг с другом. Ледяная равнина – не жизнь – смерть; не бодрствование – кошмар. Искони нас замучил кошмар Черта: и втайне своей народ – против одного – против Черта. Вот почему между нами, если мы – народ, одна связь, одна религия[18 - Под народной тенденцией я разумею вовсе не «хождение в народ», а нравственную связь с родиной, обусловливающую индивидуализм народного творчества вообще (вовсе не надо писать о мужике или о «Перуне», чтобы быть национальным писателем, как Пушкин). Я не понимаю всей пустой шумихи критики вокруг «декадентов-народников», оспаривающей не декадентов, но «Дедушку» Гердера.«Перун» – сборник стихов С. М. Городецкого (1907), где широко использованы мотивы славянской языческой мифологии. «Декадентов-народников» Белый соотносит с немецким ученым и писателем XVIII в. И. Гердером, много внимания уделявшим собиранию и изучению песен народов мира, видевшим в фольклоре воплощение поэтически выраженного национального духа.].
На Западе каждый – против всех; у нас – все против одного; и потому-то индивидуализм в России всегда разлагает религию. Так крепла в нас, так отобразилась в литературе религия народа. Мы можем казаться себе не религиозными, но это только в сознании; в бессознательной, в жизненной стихии своей мы религиозны, если народны; и народны, если религиозны. Религия есть универсальная связь; она не в форме, но в духе.
Вот почему интеллигентский индивидуализм влекся к западному универсализму. Западниками у нас были искони индивидуалисты. Наоборот, искони индивидуалисты Запада преклонялись пред нашей литературой, глубоко народной; религия их звучала в глубине личности; религия наша – в общей связи, в общих лозунгах. Но общий лозунг и лозунг индивидуальный сочетаемы в религию, ибо религия – есть религия единого. Вот почему лозунги русской литературы, универсальные для нас, звучали индивидуально для Запада. Вот почему Ницше видел в Достоевском не выражение стремлений целого: народа, а только индивидуальный призыв; Достоевский, этот универсалист, казался Ницше великим индивидуалистом, как великий индивидуалист Ницше для целой группы русских символистов явился в свое время переходом к христианству[19 - Ф. Ницше относился к творчеству Достоевского с большим интересом и уважением; характерный отзыв его о русском писателе приводит Л. Шестов в своей книге «Достоевский и Ницше»: «Достоевский – это единственный психолог, у которого я мог кое-чему научиться; знакомство с ним я причисляю к прекраснейшим удачам моей жизни» (см.: Шестов Л. Собр. соч. в 6-ти т., т. 3. Спб., 1911, с. 23).]. Без Ницше не возникла бы у нас проповедь неохристианства. Индивидуальное Запада легче усваивается стихией нашего народа, потому что религия жизни – на Западе с индивидуалистами, как у нас она с народом. И наоборот: все универсальное Запада усваивается русскими индивидуалистами в большей мере, нежели индивидуальное.
Вот почему западноевропейский символизм, переброшенный в Россию, принял столь определенную религиозчно-мистическую окраску; а эта окраска неизменно приведет его к народу. И уже приводит: по-новому воскресает в нас народ; по-новому углубляем мы тенденциозность литературы русской. Пусть сознание интеллигента претит религии: это только пока отрывается он от первобытной стихии народа, становится индивидуалистом – более или менее; но подлинный индивидуализм – это опять религия: а всякая религия есть связь; с чем же связует себя индивидуалист? С самим собой. Но тогда в личности есть два Я. И пусть другое «Я» называю я – «я», в то время как другие зовут это я – «Он»; Я и Он сливаются воедино. Отказываясь от Него, я должен отказаться от себя, т. е. погибнуть. Индивидуализм ведет либо к смерти второй, либо к возрождению; во втором случае в глубине личного открывается сверхличное; сверхличное, поющее во мне, одухотворяет сверхличное, воспринятое как что-то, вне меня лежащее. Вознесенная личность должна возвратиться к религии; религия должна вознести личность.
Русские символисты прикоснулись к Ницше; если увидели они «Себя» в себе, то не могут они не увидеть, что «Он» народа открывается им как подлинное «Я».
Современная русская литература – символична по форме; форма этого символизма в русской литературе доселе была западноевропейской: она была изящной словесностью. В современной русской литературе встречаемся мы с такими стилистами, как Мережковский, Брюсов и Сологуб.
Но содержанием русской литературы не может не быть та или иная (явная или скрытая) проповедь. Эта проповедь звучит в символизме: раз эта проповедь существует – участь современной русской литературы – стать выразительницей живых иррациональных стремлений.
Неудивительно, что современные русские символисты уже прикоснулись к прошлому русской литературы; Брюсов оживил и приблизил нам Пушкина, Тютчева и Баратынского. По-новому показал нам Мережковский глубокий смысл религиозной проповеди Гоголя, Достоевского и Толстого. По-новому внимаем мы голосу Некрасова.
Глубоко народны Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Некрасов. Современная русская литература уже осветила по-новому религиозный смысл этих писателей; этим связала она себя с ними. А в них встретилась уже с русским народом, с родиной. Русская литература прошлого от народа шла к личности, с востока – на запад. Современная русская литература идет от Ницше и Ибсена к Пушкину, Некрасову и Гоголю; с запада – на восток; от личности – к народу.
Между прошлым русской литературы и ее будущим – мертвые отбросы когда-то живой тенденции и мертвые отбросы живого индивидуализма. Два творческих потока – от будущего к прошлому и от прошлого к будущему – еще не встретились, не соединились. Мертвая тенденциозность и мертвый аллегоризм искажают стремление живой проповеди соединиться с живой музыкой личности. Живая личность кажется каменным истуканом обществу; живое в обществе прячется под маской безличия. Черт еще «путает» нас.
Но важно одно: современная русская литература говорит о будущем; но читаем это будущее в прообразах прошлого: то, что казалось нам в прошлом нелепым, оказалось символичным, получило чисто внутренний смысл; и русская современная литература изнутри соприкоснулась с прошлым. Одна струя современной русской литературы по-новому осветила нам индивидуализм Пушкина, другая струя – оживила народность Гоголя и Достоевского. Будущее озарило прошлое; и, осязая прошлое, мы начинаем верить в настоящее.
Но еще нет цельности в современной литературе: все, имеющее значение в литературном сегодня, раскололось на два русла, а линии раскола уже засыпаны мусором вырождения; неопределенно смешиваются две литературные школы.
Русская тенденциозная литература, минующая символизм, обречена вращаться в круге идей, выход из которых был указан Толстым, Достоевским, Гоголем. Русские реалисты, разорвавшие с народом и проповедующие индивидуализм, смешны и жалки: господа Арцыбашев, Каменский, даже Куприн никуда не ведут; но и не поют вовсе, а пописывают. Так называемые «импрессионисты», как, например, Дымов, Зайцев и даже Л. Андреев, – занимают промежуточное место. Там, где в Андрееве звучат гражданские ноты, там он в прошлом, там не поднимается он выше не только Толстого, Достоевского, Некрасова, но даже не достигает он силы Успенского, Гаршина, Горького, Короленки. А где Андреев символист, там он – не русский вовсе: там звучат в нем ноты Эдгара По, Пшибышевского, дурно усвоенного Ницше, Метерлинка. Символизм и натурализм, личность и общество не соединяет Андреев, но смешивает. И куда народнее, например, высокоталантливый символист Сологуб в «Мелком бесе», в «Истлевающих личинах»[20 - «Мелкий бес» (1905) – роман Ф. К. Сологуба: «Истлевающие личины» – книга рассказов того же автора (М., 1907). См. ниже статью «Ф. Сологуб».] и других рассказах.
Действительно новое, близкое, нужное способны сказать символисты: в глубине души народной звучит им подлинно религиозная правда о земле; это потому, что они не более или менее индивидуалисты, а индивидуалисты, повернувшиеся к России: оттого-то Мережковский, индивидуалист-ницшеанец, когда-то сумел понять Достоевского, Гоголя и Толстого так, как никогда никто их не понимал: читаем ли мы его или не читаем, но когда мы говорим о Достоевском, мы во власти его идей. Те же индивидуалисты, которые и по сю пору глядят на Запад, никогда не вырвутся из-под власти Ницше. Западу некуда идти после Ницше. Индивидуалисты-западники или до конца, или еще не до Конца ницшеанцы. Их участь – признать Богом себя. Бог – это я; Ты – это «Я»; они не поймут, пока не вернутся к народу, что их «Я» есть «Он» для народа. Если бы поняли они, что их «Я» в сущности не «Я», что подлинное «Я» их – в лучшем случае стремление к дальнему «Я», а это дальнее «Я» и есть народный «Он», «Бог», Который в сердце народном открывается, в «Я» открывается. Если б это они поняли, религия зажглась бы в них – да. Но они этого не понимают, не хотят понять.
Есть и полуобернувшиеся к народу: например, Блок. Тревожную поэзию его что-то сближает с русским сектантством. Сам он себя называет «невоскресшим Христом»; а его Прекрасная Дама в сущности хлыстовская Богородица[21 - «невоскресший Христос» – Белый имеет в виду стихотворение Блока «Ты отошла, и я в пустыне…» (1907).Сближение блоковской Прекрасной Дамы и хлыстовской Богородицы приводится Белым на основании веры сторонников хлыстовских сект в возможность прямого воплощения Святого Духа в конкретных людях, которые становятся, таким образом, «христами» и «богородицами». Близкую к хлыстовству секту «голубей» Белый описал в своем романе «Серебряный голубь».]. Символист А. Блок в себе самом создал странный причудливый мир; но этот мир оказался до крайности напоминающим мир хлыстовский. Блок или еще народен, или уже народен. С одной стороны, его мучают уже вопросы о народе и интеллигенции, хотя он еще не поднялся к высотам ницшевского символизма, т. е. еще не переживал Голгофы индивидуализма. Оттого-то народ для него – как будто эстетическая категория, a Ницше для него – только «чужой, ему не близкий, не нужный идол»[22 - Источник приведенного Белым высказывания А. А. Блока о Ницше не ясен; другие замечания поэта свидетельствуют о его глубоком интересе к личности немецкого философа. В письме к матери 22 октября 1910 г. читаем: «Читал Ницше, который мне очень близок».]. Люди этого сознания не понимают вовсе, что соединение с народом не эстетика, как и Ницше не кумир, а самый близкий брат, принявший подвиг мученичества за всех нас.
Обращаясь к народу, они как бы говорят ему: так же почвенны мы, как народ; не в том почвенность, чтобы осесть в каком-нибудь уголке хлебопашеством; не в земле сила народа: земля русская скудная, осыпается, размывается, выветривается: овраги гложут ее; в России много оврагов, и потому-то почвенники могут остаться без почвы: так что или народ – мы, или нет – народа.
Народ как мечта индивидуалиста, земля как иллюзия – вот во что превращается в них мука Гоголя, пророческий крик Достоевского, скорбная песнь Некрасова. Но этой мечтой и этой иллюзией закрываются они от Ницше. И висят в иллюзионистической пустоте. Так восток входит в их западничество, распыляя подлинность запада. Но и запад оскопляют они своим будто бы религиозно переживаемым символизмом.
Их долг: или подняться к высотам вместе с Ницше, или действительно стать народными: в противном случае их литературная линия выродится. Таков А. Блок, таков был бы и Андреев, если бы Андреев стал подлинным символистом; таков же Зайцев.
И они уже дали сорные всходы: грошовое декадентство, рекламная соборность; все эти эротисты, мистические анархисты и прочие благополучно паразитируют на этом не до конца западничестве, не до конца народничестве.
Есть две линии русского символизма, две правды его. Эти правды символически преломились в двух личностях: в Мережковском и в Брюсове.
Мережковский первый оторвался от народничества в тот момент, когда народничество стало вырождаться в литературе русской; он избег крайности народничества, уходя в бескрайний запад индивидуализма.
Во всяком случае, странники Некрасова уже на шеломени, а один из странников, Влас, – тот прямо перешел за черту положенного, и далеко протянулся его путь: он протянулся за горизонт наших догматов к «светлому граду жизни». Как странно: туда же протянулся путь русского интеллигента, начитавшегося западных символистов, – путь Александра Добролюбова[8 - А. М. Добролюбов, поэт-символист, около 1900 г. порвал со своим окружением и ушел «в народ»; странствовал, одно время жил в Соловецком монастыре. Белый соотносит фигуру Добролюбова с героем некрасовского стихотворения «Влас» (1854), мужиком-грешником, который имел «видение» и во исполнение своего обета раздал имущество и сделался странником.]: уже девять лет вместе с Власом идет он к «светлому граду новой жизни». Этот одинокий образ русского символиста, поборовшего нашу трагедию, не может не волновать нас: мы тоже пойдем, мы не можем топтаться на месте: но… – куда пойдем мы, куда?
Как символично признание Льва Толстого, не интеллигента вовсе и не декадента, конечно: Лев Толстой признается, что у него нет добролюбовской силы; оттого-то не разрывает с прошлым Лев Толстой; оттого-то религиозные искания Толстого не разрешаются в религиозном действии, а только в моральной проповеди, только в глухой забастовке[9 - Вскоре Белый опишет уход и смерть Л. Толстого именно как религиозное действо (см. Белый А. Трагедия творчества: Достоевский и Толстой. – Наст. изд.).].
Как не похож он на Достоевского, который хотел дело, и не далось ему дело: он был ослеплен видением религиозного будущего и устами Зосимы ответил на будущее это: «Буди, буди»[10 - Имеется в виду глава «Буди, буди!» из «Братьев Карамазовых» Ф. М. Достоевского (ч. 1, кн. 2, гл. V), где старец Зосима утверждает неизбежность преображения христианского общества «во единую вселенскую и владычествующую церковь».]. А когда повернулся к действительности, в глазах у него пошли темные круги: эти круги перенес он на лица русских интеллигентов, еще не имеющих подлинной религиозной реальности, но уже пролагающих к ней пути: этих интеллигентов назвал он «бесами». И они ответили ему: «жестокий талант». Интеллигенция долго не хотела принять Достоевского. Достоевского с ней черт попутал: интеллигенция видела Достоевского в черном свете, а он – ее. Черное оказалось между ними.
Но невероятный, не объяснимый никакою платформой и ныне уже совершившийся факт, а именно, признание Достоевского – не показывает ли это признание, что мы и он – одно: мы называем стремления наши именем догмата, он – именем Бога: но мы с ним, он среди нас, и что-то третье, живое между нами. Значит, и мы – народны: так же глубоко мы народны, как глубоко народен Достоевский. Признанием Достоевского русская интеллигенция признала свою религиозную связь с народом.
Это признание отразилось на судьбах современной русской литературы.
Слишком много увидел в будущем Достоевский. Но в окружающей действительности ничего не увидел, все перепутал Достоевский-горожанин: голодные деревеньки, полынь и овраги русской действительности (много оврагов) не волновали его: благоговейно склоняемся мы перед исповедью Некрасова: «Мать-отчизна! Дойду до могилы, не дождавшись свободы твоей… Но желал бы… чтобы ветер родного селенья звук единый до слуха донес, под которым не слышно кипенья человеческой крови и слез». И наша молодежь десятилетия внимала этим словам: молодежь осмеял Достоевский в безобразной пародии на то, как русский народ «от Тамбова до Ташкента с нетерпеньем ждал студента»[11 - Неточная цитата из «Бесов» Ф. М. Достоевского (ч. 2, гл. 6). В романе – «От Смоленска до Ташкента».]. Повторяю: Достоевский был слеп тут: его ослепило будущее: и все-таки молодежь приняла Достоевского.
Если приняла его, то примет и то, о чем кричал Достоевский (ведь он – «не во имя свое»), пойдет туда, куда призывал Достоевский: к религиозному будущему нашей страны.
Русская интеллигенция не видела того, что открылось Достоевскому в будущем; но русская интеллигенция видела и слышала то, чего не видел и не слышал Достоевский в настоящем: видела овраги российской низменности и странника, слышала его голос в полях:
Холодно, странничек, холодно,
Голодно, родименький, голодно.[12 - Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Что ни год, уменьшаются силы» (1861). Белый взял это стихотворение эпиграфом к своей книге стихов «Пепел» (1909).]
Достоевский сумел религиозно осветить будущее народа. Но связи будущего с настоящим не нашел: остался без почвы. Русская интеллигенция сумела в настоящее внести религиозное отношение: заботы о хлебе народном разожгла она в жертвенный огонь; вся она – борьбы розовой жертва; жертвовать можно только не во имя свое: и хлеб земной русская интеллигенция непроизвольно превратила в символ. Достоевский имел символическое видение: «град новый»[13 - «град новый» – Откр. 21.]. Вот почему приблизил он к нам образы Апокалипсиса. Но может ли спуститься на землю видение «града»; может ли облачное видение стать хлебом насущным? Символы русской интеллигенции имели другую форму, нежели символы Достоевского. Была ли за теми и другими соединяющая их реальность? Да, была: потому что Достоевский и русская интеллигенция встретились теперь независимо от формы культов. Культ русской интеллигенции оформился ныне в молитвах о хлебе насущном для народа: форма этого культа претила Достоевскому; он называл этот культ «беснованием». Культ Достоевского оформился в проповеди православия: форму этого культа русская интеллигенция определила как «мракобесие». Мракобесие столкнулось с беснованием и неожиданно слилось, неожиданно встретилось в наших сердцах сокровенное, тайное этих форм: и тогда оказалось в глубине религиозного опыта, что мракобесие Достоевского – личина, что вовсе не православен он, что и он – о хлебе народном; беснование русской интеллигенции оказалось молитвой к дальнему.
Ныне не боимся мы беснования, как вовсе не устрашает нас уже сила мракобесия. Так изгоняем мы беса из сердца русской действительности на поверхность ее: отрицая догматы православия, принимаем религиозные символы; отрицая догматы марксизма, принимаем символы преображения земли.
Так сомкнулись две линии в одну: русская литература с русской жизнью, слово с плотью. Но тут же мы поняли, что пересечение обеих линий – впереди, в будущем: мы поняли только то, что пересечение возможно: продолжая общественность за горизонт догматизма, мы видим, что оправдание ее – в религии; продолжая историческую религию за горизонт прошлого, мы видим, что оправдание ее – не в истории вовсе. В свете искомого соединения религиозные догматы претворяются, в символы жизненных ценностей, а догматы русской интеллигенции претворяются в живые символы религии.
Русской литературе открывается новая жизнь; русской жизни дается новое слово, творческое, действующее слово. Старая жизнь перестает быть жизнью; русская литература – не вовсе литература. К этому мы пришли только теперь. Но не то было в недавнем прошлом. В недавнем прошлом, после Достоевского, литература иссякает – прежняя, тенденциозная, живая: кряж ее обрывается (Короленко, Горький): она обращается к перепеву; правда, она выдвигает новые общественные элементы, новые мотивы: но она не несет новой живой проповеди; и тенденция в русской литературе все более и более вырождается или иссякает вовсе; это потому, что самые важные, самые нужные слова о деле сказаны, а дела – нет.
И там, где иссякает тенденция, проповедь, – расцветает пышно стилистика, развивается форма: что заменяется как. «Как умело выражается Чехов, как говорят, двигаются его герои», – восхищаемся мы: но что ведет их, что несут они нам – мы не знаем: в слове выражается их как, в немоте их что и для чего: еще шаг – и слова потеряют смысл, еще шаг – и слова превратятся в музыку, а литература – в новый смычок в симфоническом оркестре.
Еще шаг – и соборность нашей литературы сменится крайним индивидуализмом. Так и случилось.
«De la musique avant toute chose» – раздается в России лозунг Верлена[14 - «De la musique avant tout» (франц.) – «о музыке прежде всего». Из стихотворения П. Вердена «Art po?tique» («Искусство поэзии»). Один из девизов символизма.].
Никогда на Западе тенденциозная проповедь не была так иррациональна, как в России; литературный рационализм заел беллетристику Запада; и потому-то в западной литературе поднялся бунт против литературного рационализма. Литература Запада старее литературы русской; реальные заслуги ее – в ряде технических завоеваний; техника в ней реальнее проповеди. Проповедь засыпала личность на Западе мертвыми словами. И восстала личность на мертвое слово: личность тогда в слове увидела музыку, в бессловесном увидела она жизнь. Техника соединилась с музыкой; слова обернулись в символы: песни без слов. Литературная техника стала клавиатурой песни: индивидуализм подал руку академизму в борьбе с холодной жизненностью: живое предстало в мертвом саване.
И пока происходило на Западе такое оборотничество, мы не имели времени вглядеться в личину оборотня: в оборотней мы не верили; и мы не верили в жизненность символизма; да и кроме того: слишком были мы заняты нашей родною болью, нашим огненным словом литературы: в преемниках Толстого, Достоевского и Некрасова чтили мы великих учителей, не замечая налета мертвенности в позднейшей литературной проповеди; в потухающих углях мы видели пламя, в теплой золе – летучий дым.
И только тогда мы очнулись, когда первая фаланга победоносного войска индивидуалистов предстала пред нами с лозунгами: «Ницше, Ибсен, Уайльд, Метерлинк, Гамсун». «Что это – войско призраков?» – воскликнули мы, но призраков и нет вовсе. А между тем символисты Запада скинули маску, превратились в проповедников, проповедников иного, им неведомого совершенства: они несли культ личности в жизнь, культ музыки в поэзию, культ формы в литературу[15 - Разумеется, в 1907 г. Белый не мог предвидеть, какие социально-культурные последствия вызовет в России ренессансно-романтический культ личности, наложившись на отечественную харизматическую и эсхатологическую духовно-историческую почву.].
И первые перебежчики войска призраков, русские символисты, казались нам выходцами с того света, мертвецами, изменниками; в мелодии их слов мы слышали только безумие, в проповеди формы – холодное резонерство, в признании личности – эгоизм. «Это царское платье», – кричали мы: царское платье царским платьем не оказалось, – но платьем оказалось оно, и хорошим платьем. Казалось, над линией русской литературы обозначилась новая линия, без связи с прежней. Тогда с большим воодушевлением присягнула русская интеллигенция полумертвой общественной тенденции в русской литературе, с негодованием прокляла она войско призраков символизма.
По граням соприкосновения двух литературных течений, призрачного и реального, закипела борьба. Она началась огульным хохотом по адресу призраков (или декадентов, как их тогда называли)[16 - Так называют символистов и поныне; это бессмысленное прозвище укоренилось теперь, когда обнаружилось, что декаденты – это те же романтики, классики, визионеры, равно как и академисты прежнего времени.]; но призраки заявили о своем действительном существовании; ничтожная горсть декадентов на хохот ответила вызовом, на полемику – полемикой. Против знамени Некрасова, Горького, Чехова, Гл. Успенского выдвинули западноевропейские знамена, и притом так, что скоро умолк хохот русской критики, сменяясь откровенной бранью и улюлюканьем; над призраками посмеялись, но они взяли и воплотились. А русская интеллигенция, перед которой происходила борьба, обратилась к новым знаменам, отвертываясь от знаменосцев; приняла Ницше и Ибсена, не видя Брюсова, Мережковского и Бальмонта: получилось впечатление, будто знамена индивидуализма прискакали в Россию сами на своих древках, так что русская интеллигенция думала потом, что сама она внесла в Россию культ индивидуализма.
В эпоху этой борьбы вырос Л. Андреев, отразивший в себе обе тенденции русской литературы – социальную и декадентскую, реальную и призрачную; не слияние, а смешение, не единство, а параллель: эта параллель того, что есть, и того, что кажется неосуществимым символически, отобразилась у него в рассказе «Призраки»[17 - В рассказе Л. Андреева «Призраки» (1904) речь идет о пациентах сумасшедшего дома с их раздвоенным сознанием.]. Смешение двух миросозерцании не изгладилось с ростом его таланта: вот почему идейный хаос нарисовал ему картину жизненного хаоса. Л. Андреев – талантливый выразитель неопределенности: как будто он одновременно рос в Двух враждебных лагерях. В нем – перемирие двух миросозерцании, не соединение вовсе.
Русские декаденты остались чуждыми русскому обществу, но слова их о новом Западе вошли в плоть и кровь современной молодежи. С ними борются, но о западной литературе говорят их словами. «Мир Искусства» ругали, однако зачитывались Ницше. Декадентов ругают доныне, забывая, что с Гамсуном, Пшибышевским, Уайльдом, Метерлинком, Верхарном познакомили они; часто видишь теперь, как поклонники Ведекинда грудью стоят за этого писателя перед декадентами, забывая, что еще пять лет тому назад русские декаденты уже видели в нем серьезную величину.
Можно сказать, что всю программу домашнего чтения русского интеллигента по Западу составили часто ругаемые русские символисты: их ругают, но говорят их словами. Между тем в русском символизме произошла существенная перемена, обратная той, которая произошла в русской интеллигенции.
В то время как русская интеллигенция увлекалась чтением Уайльда, Гамсуна, Ибсена, Метерлинка, русские символисты по-новому осветили русскую литературу от Пушкина до Достоевского. В литературных вкусах русской интеллигенции водворился интернациональный адогматизм и индивидуализм. В литературных вкусах русских символистов углубилась старая, тенденциозная, национальная литература.
Западноевропейский индивидуализм в Мережковском и Гиппиус прикоснулся к Достоевскому, в Брюсове прикоснулся к Пушкину и Баратынскому, в Сологубе – к Гоголю, в Ремизове – к Достоевскому и Лескову. Ницше встретился с Достоевским, Бодлер и Верхарн – с Пушкиным (в Блоке), Метерлинк – с Лермонтовым и Вл. Соловьевым, Пшибышевский – с Лесковым (в Ремизове). Беспочвенное декадентство пустило корни в литературную почву народного духа. Оно перекинуло мост от Запада к Востоку. Не эпигоны оказались преемниками заветов лучшего прошлого. Пришли чужие и добровольно взвалили на плечи драгоценное наследство прошлого.
Что же делали в это время эпигоны тенденциозности? Продолжали отказываться от литературной «нечисти» Запада, все время заимствуя у этой «нечисти» литературные краски. Я не стану здесь называть имена тех, кто, экспроприируя форму, и доныне открещивается от экспроприируемых; одной рукой вырывает сорные плевелы в храме литературы, другой рукой украшается этими плевелами: одна рука – не ведает, что творит другая.
Индивидуализм на Западе вырастал по мере того, как мертвые формы жизни закрепощали личность. Действие равно противодействию: жизнь связывала личность; личность расцветала вне жизни. Смысл слов превратили в ходячие монеты: и смысл слова перелился в музыку. И только на крайних вершинах индивидуализма Ницше понял, что смысл в музыке, в ритме жизни: так возникла религия личности; только эта форма религии на Западе оказалась живой формой.
В России не выпрямлялась личность, не отливалась в формы, но одна форма равно придавила всех: не многообразие форм – единообразие задавило нас. Нас задавила – одна ледяная равнина. У нас – один общий враг. И тайны многих – одно: одинаково втайне перекликаемся мы друг с другом. Ледяная равнина – не жизнь – смерть; не бодрствование – кошмар. Искони нас замучил кошмар Черта: и втайне своей народ – против одного – против Черта. Вот почему между нами, если мы – народ, одна связь, одна религия[18 - Под народной тенденцией я разумею вовсе не «хождение в народ», а нравственную связь с родиной, обусловливающую индивидуализм народного творчества вообще (вовсе не надо писать о мужике или о «Перуне», чтобы быть национальным писателем, как Пушкин). Я не понимаю всей пустой шумихи критики вокруг «декадентов-народников», оспаривающей не декадентов, но «Дедушку» Гердера.«Перун» – сборник стихов С. М. Городецкого (1907), где широко использованы мотивы славянской языческой мифологии. «Декадентов-народников» Белый соотносит с немецким ученым и писателем XVIII в. И. Гердером, много внимания уделявшим собиранию и изучению песен народов мира, видевшим в фольклоре воплощение поэтически выраженного национального духа.].
На Западе каждый – против всех; у нас – все против одного; и потому-то индивидуализм в России всегда разлагает религию. Так крепла в нас, так отобразилась в литературе религия народа. Мы можем казаться себе не религиозными, но это только в сознании; в бессознательной, в жизненной стихии своей мы религиозны, если народны; и народны, если религиозны. Религия есть универсальная связь; она не в форме, но в духе.
Вот почему интеллигентский индивидуализм влекся к западному универсализму. Западниками у нас были искони индивидуалисты. Наоборот, искони индивидуалисты Запада преклонялись пред нашей литературой, глубоко народной; религия их звучала в глубине личности; религия наша – в общей связи, в общих лозунгах. Но общий лозунг и лозунг индивидуальный сочетаемы в религию, ибо религия – есть религия единого. Вот почему лозунги русской литературы, универсальные для нас, звучали индивидуально для Запада. Вот почему Ницше видел в Достоевском не выражение стремлений целого: народа, а только индивидуальный призыв; Достоевский, этот универсалист, казался Ницше великим индивидуалистом, как великий индивидуалист Ницше для целой группы русских символистов явился в свое время переходом к христианству[19 - Ф. Ницше относился к творчеству Достоевского с большим интересом и уважением; характерный отзыв его о русском писателе приводит Л. Шестов в своей книге «Достоевский и Ницше»: «Достоевский – это единственный психолог, у которого я мог кое-чему научиться; знакомство с ним я причисляю к прекраснейшим удачам моей жизни» (см.: Шестов Л. Собр. соч. в 6-ти т., т. 3. Спб., 1911, с. 23).]. Без Ницше не возникла бы у нас проповедь неохристианства. Индивидуальное Запада легче усваивается стихией нашего народа, потому что религия жизни – на Западе с индивидуалистами, как у нас она с народом. И наоборот: все универсальное Запада усваивается русскими индивидуалистами в большей мере, нежели индивидуальное.
Вот почему западноевропейский символизм, переброшенный в Россию, принял столь определенную религиозчно-мистическую окраску; а эта окраска неизменно приведет его к народу. И уже приводит: по-новому воскресает в нас народ; по-новому углубляем мы тенденциозность литературы русской. Пусть сознание интеллигента претит религии: это только пока отрывается он от первобытной стихии народа, становится индивидуалистом – более или менее; но подлинный индивидуализм – это опять религия: а всякая религия есть связь; с чем же связует себя индивидуалист? С самим собой. Но тогда в личности есть два Я. И пусть другое «Я» называю я – «я», в то время как другие зовут это я – «Он»; Я и Он сливаются воедино. Отказываясь от Него, я должен отказаться от себя, т. е. погибнуть. Индивидуализм ведет либо к смерти второй, либо к возрождению; во втором случае в глубине личного открывается сверхличное; сверхличное, поющее во мне, одухотворяет сверхличное, воспринятое как что-то, вне меня лежащее. Вознесенная личность должна возвратиться к религии; религия должна вознести личность.
Русские символисты прикоснулись к Ницше; если увидели они «Себя» в себе, то не могут они не увидеть, что «Он» народа открывается им как подлинное «Я».
Современная русская литература – символична по форме; форма этого символизма в русской литературе доселе была западноевропейской: она была изящной словесностью. В современной русской литературе встречаемся мы с такими стилистами, как Мережковский, Брюсов и Сологуб.
Но содержанием русской литературы не может не быть та или иная (явная или скрытая) проповедь. Эта проповедь звучит в символизме: раз эта проповедь существует – участь современной русской литературы – стать выразительницей живых иррациональных стремлений.
Неудивительно, что современные русские символисты уже прикоснулись к прошлому русской литературы; Брюсов оживил и приблизил нам Пушкина, Тютчева и Баратынского. По-новому показал нам Мережковский глубокий смысл религиозной проповеди Гоголя, Достоевского и Толстого. По-новому внимаем мы голосу Некрасова.
Глубоко народны Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Некрасов. Современная русская литература уже осветила по-новому религиозный смысл этих писателей; этим связала она себя с ними. А в них встретилась уже с русским народом, с родиной. Русская литература прошлого от народа шла к личности, с востока – на запад. Современная русская литература идет от Ницше и Ибсена к Пушкину, Некрасову и Гоголю; с запада – на восток; от личности – к народу.
Между прошлым русской литературы и ее будущим – мертвые отбросы когда-то живой тенденции и мертвые отбросы живого индивидуализма. Два творческих потока – от будущего к прошлому и от прошлого к будущему – еще не встретились, не соединились. Мертвая тенденциозность и мертвый аллегоризм искажают стремление живой проповеди соединиться с живой музыкой личности. Живая личность кажется каменным истуканом обществу; живое в обществе прячется под маской безличия. Черт еще «путает» нас.
Но важно одно: современная русская литература говорит о будущем; но читаем это будущее в прообразах прошлого: то, что казалось нам в прошлом нелепым, оказалось символичным, получило чисто внутренний смысл; и русская современная литература изнутри соприкоснулась с прошлым. Одна струя современной русской литературы по-новому осветила нам индивидуализм Пушкина, другая струя – оживила народность Гоголя и Достоевского. Будущее озарило прошлое; и, осязая прошлое, мы начинаем верить в настоящее.
Но еще нет цельности в современной литературе: все, имеющее значение в литературном сегодня, раскололось на два русла, а линии раскола уже засыпаны мусором вырождения; неопределенно смешиваются две литературные школы.
Русская тенденциозная литература, минующая символизм, обречена вращаться в круге идей, выход из которых был указан Толстым, Достоевским, Гоголем. Русские реалисты, разорвавшие с народом и проповедующие индивидуализм, смешны и жалки: господа Арцыбашев, Каменский, даже Куприн никуда не ведут; но и не поют вовсе, а пописывают. Так называемые «импрессионисты», как, например, Дымов, Зайцев и даже Л. Андреев, – занимают промежуточное место. Там, где в Андрееве звучат гражданские ноты, там он в прошлом, там не поднимается он выше не только Толстого, Достоевского, Некрасова, но даже не достигает он силы Успенского, Гаршина, Горького, Короленки. А где Андреев символист, там он – не русский вовсе: там звучат в нем ноты Эдгара По, Пшибышевского, дурно усвоенного Ницше, Метерлинка. Символизм и натурализм, личность и общество не соединяет Андреев, но смешивает. И куда народнее, например, высокоталантливый символист Сологуб в «Мелком бесе», в «Истлевающих личинах»[20 - «Мелкий бес» (1905) – роман Ф. К. Сологуба: «Истлевающие личины» – книга рассказов того же автора (М., 1907). См. ниже статью «Ф. Сологуб».] и других рассказах.
Действительно новое, близкое, нужное способны сказать символисты: в глубине души народной звучит им подлинно религиозная правда о земле; это потому, что они не более или менее индивидуалисты, а индивидуалисты, повернувшиеся к России: оттого-то Мережковский, индивидуалист-ницшеанец, когда-то сумел понять Достоевского, Гоголя и Толстого так, как никогда никто их не понимал: читаем ли мы его или не читаем, но когда мы говорим о Достоевском, мы во власти его идей. Те же индивидуалисты, которые и по сю пору глядят на Запад, никогда не вырвутся из-под власти Ницше. Западу некуда идти после Ницше. Индивидуалисты-западники или до конца, или еще не до Конца ницшеанцы. Их участь – признать Богом себя. Бог – это я; Ты – это «Я»; они не поймут, пока не вернутся к народу, что их «Я» есть «Он» для народа. Если бы поняли они, что их «Я» в сущности не «Я», что подлинное «Я» их – в лучшем случае стремление к дальнему «Я», а это дальнее «Я» и есть народный «Он», «Бог», Который в сердце народном открывается, в «Я» открывается. Если б это они поняли, религия зажглась бы в них – да. Но они этого не понимают, не хотят понять.
Есть и полуобернувшиеся к народу: например, Блок. Тревожную поэзию его что-то сближает с русским сектантством. Сам он себя называет «невоскресшим Христом»; а его Прекрасная Дама в сущности хлыстовская Богородица[21 - «невоскресший Христос» – Белый имеет в виду стихотворение Блока «Ты отошла, и я в пустыне…» (1907).Сближение блоковской Прекрасной Дамы и хлыстовской Богородицы приводится Белым на основании веры сторонников хлыстовских сект в возможность прямого воплощения Святого Духа в конкретных людях, которые становятся, таким образом, «христами» и «богородицами». Близкую к хлыстовству секту «голубей» Белый описал в своем романе «Серебряный голубь».]. Символист А. Блок в себе самом создал странный причудливый мир; но этот мир оказался до крайности напоминающим мир хлыстовский. Блок или еще народен, или уже народен. С одной стороны, его мучают уже вопросы о народе и интеллигенции, хотя он еще не поднялся к высотам ницшевского символизма, т. е. еще не переживал Голгофы индивидуализма. Оттого-то народ для него – как будто эстетическая категория, a Ницше для него – только «чужой, ему не близкий, не нужный идол»[22 - Источник приведенного Белым высказывания А. А. Блока о Ницше не ясен; другие замечания поэта свидетельствуют о его глубоком интересе к личности немецкого философа. В письме к матери 22 октября 1910 г. читаем: «Читал Ницше, который мне очень близок».]. Люди этого сознания не понимают вовсе, что соединение с народом не эстетика, как и Ницше не кумир, а самый близкий брат, принявший подвиг мученичества за всех нас.
Обращаясь к народу, они как бы говорят ему: так же почвенны мы, как народ; не в том почвенность, чтобы осесть в каком-нибудь уголке хлебопашеством; не в земле сила народа: земля русская скудная, осыпается, размывается, выветривается: овраги гложут ее; в России много оврагов, и потому-то почвенники могут остаться без почвы: так что или народ – мы, или нет – народа.
Народ как мечта индивидуалиста, земля как иллюзия – вот во что превращается в них мука Гоголя, пророческий крик Достоевского, скорбная песнь Некрасова. Но этой мечтой и этой иллюзией закрываются они от Ницше. И висят в иллюзионистической пустоте. Так восток входит в их западничество, распыляя подлинность запада. Но и запад оскопляют они своим будто бы религиозно переживаемым символизмом.
Их долг: или подняться к высотам вместе с Ницше, или действительно стать народными: в противном случае их литературная линия выродится. Таков А. Блок, таков был бы и Андреев, если бы Андреев стал подлинным символистом; таков же Зайцев.
И они уже дали сорные всходы: грошовое декадентство, рекламная соборность; все эти эротисты, мистические анархисты и прочие благополучно паразитируют на этом не до конца западничестве, не до конца народничестве.
Есть две линии русского символизма, две правды его. Эти правды символически преломились в двух личностях: в Мережковском и в Брюсове.
Мережковский первый оторвался от народничества в тот момент, когда народничество стало вырождаться в литературе русской; он избег крайности народничества, уходя в бескрайний запад индивидуализма.