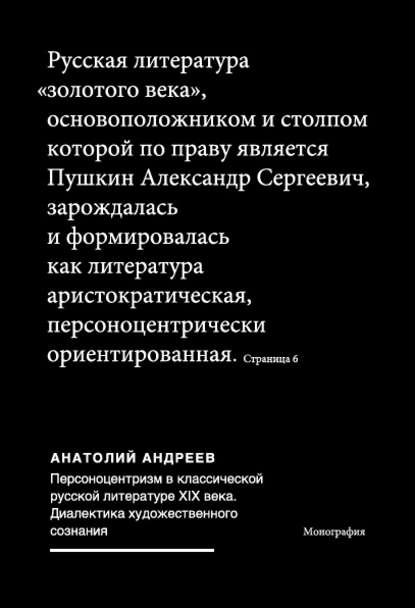По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Персоноцентризм в классической русской литературе ХIХ века. Диалектика художественного сознания
Год написания книги
2003
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ни одна идеология не устраивала героя. Более того: идеологический уровень сознания как таковой исчерпал свои мировоззренческие возможности, перестал быть генератором мировоззренческих стратегий. Идейный тупик был вызван не тем, что личность не смогла найти точку опоры в виде приемлемой идеологии, а тем, что «идеологическое мировоззрение» (верю, потому что мне так кажется) обнаружило свою комическую, психо-эмоциональную зависимость.
«Ума холодные наблюдения» уже не могли уживаться с жалкими миражами. Позднее Онегин в письме к Татьяне признаётся:
Я думал: вольность и покой
Замена счастью.
То есть счастья – нет.
Само по себе изживание могло быть и благотворно (автор отсылает нас к универсальной точке отсчёта: своей судьбе). Однако на какой основе, с каких позиций отрицает Онегин «природного» человека?
С позиций отчаяния, бесперспективности, неконструктивности. Онегин утратил (а может быть, так и не приобрёл) целостность человека. Потворствуя холодному уму, «честно» лишая себя малейших иллюзий, разоблачая «однообразие» страстей – он лишал себя жизни. Остывание, охлаждение чувств – симптом укрепления ума, противостоящего жизни.
Таков классический, с точки зрения не доверяющих разуму, эффект «горя от ума», когда абсолютизированный ум несёт только горе живому человеку. (Обратный эффект, когда более взвешенное и менее идеологизированное обращение с тем же коварным разумом помогает разогнать унизительные потёмки души и при этом умудриться не встать в оппозицию жизни – зрелое сознание интерпретирует психику как «сук», на котором он располагается и рубить который, естественно, противопоказано – не считается классическим в силу своей немассовости, штучности, а значит незаметности на фоне основного отрицательного эффекта.) Впоследствии это дало основание таким корифеям, как Толстой и Достоевский, страстно разоблачать разум как весьма несовершенную и сомнительную основу духовной гармонии.
Ничего удивительного, что Онегин диалектически взорвался. Жизнь оказалась хитрее «голого» разума. Тщетно ожидая от ума жизненной подпитки, того порядка, который позволил бы естественно жить и эмоциональной сфере, натура властно отбросила враждебный «хлад» ума и ввергла вчерашнего философа-интеллектуала в пучину страстей: только таким способом можно было возвратить его к жизни.
Умный человек должен искать спасения в глупости – до этой «высшей смелости» Онегину надо было ещё дойти. Такая смелость есть результат не просто логического хода – а особый этап духовного развития. А пока что все пробудившиеся силы души Онегин направляет на уничтожение ненавистной жизни: на уязвление любви, на разрушение чувств поэта. Ленский с его комплексом «младости» непереносим именно как символ вселенской глупости и одновременно торжества жизни. (Кстати, в этом Онегин был глубоко прав. Набрасывая два варианта духовной судьбы, автор в первом случае говорит о Ленском как о поэте, в ком «погиб животворящий глас», во втором – его ждал «обыкновенный удел»: как у всех. Оба варианта – разные стороны человека комического, в ком никогда не возобладает разум.) Характерна реакция на картель (т. е. письменный вызов):
Онегин с первого движенья,
К послу такого порученья
Оборотясь, без лишних слов
Сказал, что он всегда готов.
Евгений не раздумывает. Между действием и душевным импульсом уже нет не то что рефлексии, но даже и элементарной цензуры здравого смысла.
Философ Онегин не просто убивает поэта Ленского (дуэль происходила «как в страшном, непонятном сне»); он убивает (или пытается убить) Ленского в себе. И только после кровавой дуэли выясняется, что жизненное начало неистребимо и его невозможно компенсировать никаким пониманием, осознанием и т. д. Онегину остаётся только жестоко раскаиваться.
Отношения Онегина с Татьяной также подчинены «плану», логике становления духа – самому главному и важному из всего, что происходит с человеком в жизни. Всякое значительное произведение искусства (отдаёт себе автор в этом отчёт или нет) зиждется на серьёзной концепции. Разумеется, исследователя художественного произведения всегда подстерегает опасность увлечься «красотой» концепции (своим детищем) и подгонять под неё полифункциональную символику, жонглируя цитатами и контрцитатами.
Однако коль скоро концепция всё же объективно присутствует в целостно организованном произведении, то обнаружение её становится первостепенной задачей, невзирая на возможные субъективные искажения исследователя. Иного пути постижения творений художника просто не существует.
В данном случае отношения Онегина с Татьяной, вплетаясь оригинальным рисунком в бесконечный жизненный узор, непринуждённо и естественно «ложатся» в концепцию. Более того, их отношения можно считать центральным «узлом», требующим для раскрытия своей экзистенциальной глубины контекста всего романа. Взаимоотношения героев, если их принять за точку отсчёта при анализе целостного произведения, – загадка, которую разрешает весь роман. Но поскольку мы уже нащупали ключ к роману, то загадка так и не станет загадкой, придавая вместе с тем необходимую ясность, стройность, смысловую полноту и завершённость «воздушной громаде» (А. Ахматова).
В предпоследней строфе произведения автор назвал Татьяну «мой верный идеал» и тем самым, казалось бы, противопоставил её своему беспутному другу, который в идеалы, конечно, не годится. Но ничто так не противопоказано роману, ничто не является менее органичным способом его постижения, нежели формальная логика. Какова рыба – такова должна быть и сеть. Простоту, изящество и «воздушность» формул следует рассматривать не только в ближайшем, локальном контексте, но и в контексте концептуальной «громады», придающей любому «летучему» смыслу бытийный, вечный оттенок. Любой пушкинский тезис, как уже было отмечено, чреват антитезисом. Причём верными (совмещение несовместимого) являются оба – но в разных отношениях. Так устроены универсум, жизнь, человек, роман в стихах, автор, читатель. Так и отнесёмся к «верному идеалу».
В этой связи вспомним: кто есть главный герой романа? В шутливой форме, обыгрывая как искусственную дань классицизму (иначе говоря – маскируя серьёзность), автор сам позаботился о том, чтобы точно расставить акценты. В заключительной строфе седьмой главы, оставляя тему «милой Татьяны», как бы импровизирующий автор в очередной раз подтверждает, что он ни на мгновенье не отходит от громады концепции:
И в сторону свой путь направим,
Чтоб не забыть, о ком пою…
………………………
Пою приятеля младого
И множество его причуд.
Благослови мой долгий труд,
О ты, эпическая муза!
И, верный посох мне вручив,
Не дай блуждать мне вкось и вкрив.
………………………
Я классицизму отдал честь:
Хоть поздно, а вступленье есть.
В шутке есть доля шутки, но обратимся к серьёзной её стороне. Никакого блуждания нет, есть строгий и продуманный курс. «Вступленье», то есть концептуальная установка, ощутимо присутствует везде и во всем. Настоящим идеалом (если это выражение в данном случае уместно) является Евгений Онегин – один из тех немногих, кто мужественно избрал путь разума. Татьяна никак не проявила себя в качестве человека, трагически обречённого в схватке двух стихий: чувства и интеллекта, жизни и смерти. Автор – честь ему и хвала – говоря о Татьяне, не умалчивает лицемерно о разноприродных духовных и жизненных функциях мужчины и женщины – но определённо подчёркивает необходимость дифференциации двух противоположных начал. О Татьяне Лариной автор говорит именно как об идеале женщины, В чём суть идеала?
По-своему органично он проявился уже в Ольге, между прочим, родной сестре Татьяны. Расхожий типаж («кокетка, ветреный ребёнок» – замечание, точнее, как всегда у Пушкина, глубоко продуманная характеристика, тем более ценно, что вырывается из уст влюблённого Ленского), он важен именно тем, что это типаж: всецело комический человек, которому неведомы раздирающие душу противоречия сердца и ума, поскольку сердце женщины так устроено, что не допускает появления равновеликого оппонента. «Ум с сердцем не в ладу» (суть формулы «горе от ума») в женской интерпретации подвергается существенной корректировке: сердце всегда право (более фривольно, но не менее точно: если женщина хочет…).
Разумеется, Татьяна не только не лишена своего «родового» признака, но он даже усилён совершенно особым, только ей присущим шармом. «Комизм» человеческой натуры если не абсолютизированно, то наиболее полно и глубоко проявляющийся именно в женщине (вспомним, кстати: Онегин в своё время был «подобен ветреной Венере»…), в Татьяне обрёл привлекательную цельность и гармоничность. Она – естественный продукт природы. «Всё тихо, просто было в ней»: даже высший свет своей культурой не изменил её натуры. Она – продолжение природы (ни больше, ни меньше: см. прописанные в деталях условия жизни и воспитания), её орган и наиболее восхитительное проявление: со стихийными зачатками величия (отсюда – недетская задумчивость, склонность к глубоким, «умным чувствам», потрясающая интуиция, позволяющая выделить именно Онегина, и даже предчувствовать его судьбу).
Ум же – дело сугубо мужское. Наделив Татьяну «недугом», автор сам бы развенчал свой идеал. Но умный автор этого не сделал.
Общаясь с женщиной – общаешься с природой. Вот почему Онегин, отторгая природу, отверг и совершенства Тани. Дело не в том, что Онегин оказался не на должной высоте и недооценил Татьяну (он как раз знал ей цену:
Нашед мой прежний идеал, (какое согласие с автором!)
Я, верно б, вас одну избрал
В подруги дней моих печальных…);
дело в том, что он оказался не готов к союзу со своей собственной «комической» изнанкой, своей первой природой (и, разумеется, с возможной невестой). Кстати, автор и здесь (не без мягкой иронии) с ним согласен:
Меж тем как мы, враги Гимена,
В домашней жизни зрим один
Ряд утомительных картин…
Ирония относится вот к чему: на то же самое можно посмотреть иными глазами; правда, для этого надо стать иным (искушённый автор, как всегда, духовно опережает растущего Онегина).
Преображение Онегина (возвращение к старому – на новый лад, что и является, собственно, полноценным обновлением) началось уже до дуэли; дуэль укоренила перелом; завершился же цикл становления духа в столице, в свете – там, где Евгения настигла хандра и вынудила покинуть город. Круговое построение сюжета, подобно диалектической спирали, символизирует целостность, завершённость, самодостаточность – и вместе с тем открытость, готовность к обновлению.
Присмотримся к скупому, но информационно очень насыщенному авторскому комментарию возвращения к истокам. Появление блудного Онегина свет – неизменный, самотождественный, вечно комический свет(т. е. практически – все люди), не изведавший школы разума – встречает, как и следовало ожидать, «неблагосклонно». С точки зрения света, трагическое прозрение равнозначно шутовскому «корченью чудака». (Поистине свет сошёл с ума: всё поставил с ног на голову!) Настороженный приём спровоцировал пафосную тираду, где автор решительно встаёт на сторону друга, горько осознавая, насколько тот выше «самолюбивых ничтожностей и насколько трагически одинок по причине своего превосходства. Одинок – по одной-единственной, вечно злободневной причине: он, к счастью для себя как для личности, стремящейся к самореализации (через самопознание) и таким образом выполняющей свой высший гуманистический долг, и к несчастью для себя как для одного из «избранной толпы» – непростительно, вызывающе умён и, вследствие этого, ориентирован на высшую свободу. Его, светского человека, ум и одарённость перестают быть его личным делом, поскольку предлагают иной взгляд на мир, иную систему ценностей, по сравнению с которой обычные люди «как вы да я, как целый свет», глядящие на жизнь «как на обряд», оказываются теми, кто они есть на самом деле: «посредственностями «. Онегин покушается на святая святых – на охранительную идеологию, вскрывая её насквозь комический, приспособительный характер. Онегин, скажем прямо, не просто захандрил, а стал угрожать основам жизни.
Разумеется, такое не прощается. Это странно, ненормально, он «корчит чудака» или, наконец, «сатанического урода», даже «демона» (в святом деле защиты жизни в выражениях можно не стесняться). Витающая тень «сумасшедшего» Чацкого («Он возвратился и попал, Как Чацкий, с корабля на бал») подчёркивает архетипичность ситуации.
В широком смысле на противостояние общества и Онегина, его продукта и антипода, можно посмотреть как на «поединок роковой» психики и сознания, натуры и рациональной культуры. Если в своём духовном хозяйстве Евгений навёл относительный порядок, подчинив мятежи страстей и иррациональных порывов логическому, умственному началу (он относительно познал себя, а значит всех остальных, человека как такового), и тем самым самоутвердился, вкусив от древа познания, отделился от природы, встал над ней и просто осмелился взять принадлежащее только человеку право (кому ж ещё?) мыслить, судить – то «с точки зрения» психики (и обожествляющего витальные потребности общества) он вскормил её «врага», нарушил извечный закон жизни, передав стратегические мировоззренческие функции не диктатуре тёмных страстей, а просветляющему душу рассудку. Слепые страсти регулируют жизнь (когда разум спит), а разбуженный ум объясняет глупость страстей: Онегин проник в потаённую «механику» жизни – и замер от дерзости прозрения:
Дожив без цели, без трудов
До двадцати шести годов,
Томясь в бездействии досуга,
Без службы, без жены, без дел,
Ничем заняться не умел.
Если приложить к герою не только иронически перечисленные мерки «обряда», но и критерии индивидуального эволюционного «темпоритма», то мы должны будем признать, что духовная содержательность жизненной паузы – отдадим должное сверхтонкости автора – несомненна. Жизнетворчество – вот чем занят бездействующий герой.
Война, объявленная Онегину обществом – это война между человеком комическим (психологическим) и человеком величественным (разумным, а значит – трагическим). Эти две модели культурного человека различаются типом сознания, типом управления сложнейшим информационным комплексом под названием человек – следовательно, типом духовности. Онегин впервые честно явил миру реальные проблемы реального человека, развенчав мифические достоинства мифического человека. Культуре чувств, страстей он противопоставил культуру холодных наблюдений, увенчанный идеей порядка, общей гуманистической концепцией.
«Горе от ума» имеет много смыслов: в отношении личности ум создал предпосылки величия, тут же назначив за колоссальный прорыв не всем посильную цену: отныне – трагичен; в отношении к обществу наличие ума – достаточный повод объявить человека врагом или, что хуже, сумасшедшим (вот где дьявольский ход: мыслителя – отождествить с безумцем). Стоит или нет личность, сконцентрировавшая в себе главное противоречие человека и культуры (и осознававшая его как главное), того, чтобы стать героем «громадного» романа? Стоило или нет автору «Руслана и Людмилы» рискнуть репутацией и открыто встать на сторону духовности, реально освобождающей человека от миражей??
Сам факт такого романа говорит о разумной вере в безусловные достоинства и неискоренимую жизнестойкость человека. Сам роман – памятник человеку. Кстати, почему воздвигнутый «долгим трудом» памятник обрёл в конечном счёте форму романа в стихах?
Пушкин прекрасно осознавал различие между романом и романом в стихах. Общеизвестная цитата из письма к П.А. Вяземскому (3 ноября 1823 г.) давно стала приложением к «Евгению Онегину»: «Что касается до моих занятий, я теперь пишу не роман, а роман в стихах – дьявольская разница».
Если ответить на вопрос так: Пушкин написал роман в стихах потому, что был поэт – то это будет ответ совсем не на тот вопрос, который нас волнует. Я бы даже сказал, это по-детски наивный уход от ответа. Объяснять целесообразность романа в стихах гибкостью, эстетической завершённостью онегинской строфы, способной вместить любое содержание – это тоже уход от ответа. Значит ли это, что роман-эпопея или «просто» роман менее предрасположены к гибкости, открытости к разнородному содержанию и проч.?
Характеристика художественных возможностей строфы – тоже ответ совсем на другой вопрос. Да, генезис строфы, её впечатляюшие эстетические достоинства – всё это имеет не последнее значение. Однако это не объясняет главного: зачем писать непременно роман в стихах, если есть множество иных, не менее впечатляющих форм?
«Ума холодные наблюдения» уже не могли уживаться с жалкими миражами. Позднее Онегин в письме к Татьяне признаётся:
Я думал: вольность и покой
Замена счастью.
То есть счастья – нет.
Само по себе изживание могло быть и благотворно (автор отсылает нас к универсальной точке отсчёта: своей судьбе). Однако на какой основе, с каких позиций отрицает Онегин «природного» человека?
С позиций отчаяния, бесперспективности, неконструктивности. Онегин утратил (а может быть, так и не приобрёл) целостность человека. Потворствуя холодному уму, «честно» лишая себя малейших иллюзий, разоблачая «однообразие» страстей – он лишал себя жизни. Остывание, охлаждение чувств – симптом укрепления ума, противостоящего жизни.
Таков классический, с точки зрения не доверяющих разуму, эффект «горя от ума», когда абсолютизированный ум несёт только горе живому человеку. (Обратный эффект, когда более взвешенное и менее идеологизированное обращение с тем же коварным разумом помогает разогнать унизительные потёмки души и при этом умудриться не встать в оппозицию жизни – зрелое сознание интерпретирует психику как «сук», на котором он располагается и рубить который, естественно, противопоказано – не считается классическим в силу своей немассовости, штучности, а значит незаметности на фоне основного отрицательного эффекта.) Впоследствии это дало основание таким корифеям, как Толстой и Достоевский, страстно разоблачать разум как весьма несовершенную и сомнительную основу духовной гармонии.
Ничего удивительного, что Онегин диалектически взорвался. Жизнь оказалась хитрее «голого» разума. Тщетно ожидая от ума жизненной подпитки, того порядка, который позволил бы естественно жить и эмоциональной сфере, натура властно отбросила враждебный «хлад» ума и ввергла вчерашнего философа-интеллектуала в пучину страстей: только таким способом можно было возвратить его к жизни.
Умный человек должен искать спасения в глупости – до этой «высшей смелости» Онегину надо было ещё дойти. Такая смелость есть результат не просто логического хода – а особый этап духовного развития. А пока что все пробудившиеся силы души Онегин направляет на уничтожение ненавистной жизни: на уязвление любви, на разрушение чувств поэта. Ленский с его комплексом «младости» непереносим именно как символ вселенской глупости и одновременно торжества жизни. (Кстати, в этом Онегин был глубоко прав. Набрасывая два варианта духовной судьбы, автор в первом случае говорит о Ленском как о поэте, в ком «погиб животворящий глас», во втором – его ждал «обыкновенный удел»: как у всех. Оба варианта – разные стороны человека комического, в ком никогда не возобладает разум.) Характерна реакция на картель (т. е. письменный вызов):
Онегин с первого движенья,
К послу такого порученья
Оборотясь, без лишних слов
Сказал, что он всегда готов.
Евгений не раздумывает. Между действием и душевным импульсом уже нет не то что рефлексии, но даже и элементарной цензуры здравого смысла.
Философ Онегин не просто убивает поэта Ленского (дуэль происходила «как в страшном, непонятном сне»); он убивает (или пытается убить) Ленского в себе. И только после кровавой дуэли выясняется, что жизненное начало неистребимо и его невозможно компенсировать никаким пониманием, осознанием и т. д. Онегину остаётся только жестоко раскаиваться.
Отношения Онегина с Татьяной также подчинены «плану», логике становления духа – самому главному и важному из всего, что происходит с человеком в жизни. Всякое значительное произведение искусства (отдаёт себе автор в этом отчёт или нет) зиждется на серьёзной концепции. Разумеется, исследователя художественного произведения всегда подстерегает опасность увлечься «красотой» концепции (своим детищем) и подгонять под неё полифункциональную символику, жонглируя цитатами и контрцитатами.
Однако коль скоро концепция всё же объективно присутствует в целостно организованном произведении, то обнаружение её становится первостепенной задачей, невзирая на возможные субъективные искажения исследователя. Иного пути постижения творений художника просто не существует.
В данном случае отношения Онегина с Татьяной, вплетаясь оригинальным рисунком в бесконечный жизненный узор, непринуждённо и естественно «ложатся» в концепцию. Более того, их отношения можно считать центральным «узлом», требующим для раскрытия своей экзистенциальной глубины контекста всего романа. Взаимоотношения героев, если их принять за точку отсчёта при анализе целостного произведения, – загадка, которую разрешает весь роман. Но поскольку мы уже нащупали ключ к роману, то загадка так и не станет загадкой, придавая вместе с тем необходимую ясность, стройность, смысловую полноту и завершённость «воздушной громаде» (А. Ахматова).
В предпоследней строфе произведения автор назвал Татьяну «мой верный идеал» и тем самым, казалось бы, противопоставил её своему беспутному другу, который в идеалы, конечно, не годится. Но ничто так не противопоказано роману, ничто не является менее органичным способом его постижения, нежели формальная логика. Какова рыба – такова должна быть и сеть. Простоту, изящество и «воздушность» формул следует рассматривать не только в ближайшем, локальном контексте, но и в контексте концептуальной «громады», придающей любому «летучему» смыслу бытийный, вечный оттенок. Любой пушкинский тезис, как уже было отмечено, чреват антитезисом. Причём верными (совмещение несовместимого) являются оба – но в разных отношениях. Так устроены универсум, жизнь, человек, роман в стихах, автор, читатель. Так и отнесёмся к «верному идеалу».
В этой связи вспомним: кто есть главный герой романа? В шутливой форме, обыгрывая как искусственную дань классицизму (иначе говоря – маскируя серьёзность), автор сам позаботился о том, чтобы точно расставить акценты. В заключительной строфе седьмой главы, оставляя тему «милой Татьяны», как бы импровизирующий автор в очередной раз подтверждает, что он ни на мгновенье не отходит от громады концепции:
И в сторону свой путь направим,
Чтоб не забыть, о ком пою…
………………………
Пою приятеля младого
И множество его причуд.
Благослови мой долгий труд,
О ты, эпическая муза!
И, верный посох мне вручив,
Не дай блуждать мне вкось и вкрив.
………………………
Я классицизму отдал честь:
Хоть поздно, а вступленье есть.
В шутке есть доля шутки, но обратимся к серьёзной её стороне. Никакого блуждания нет, есть строгий и продуманный курс. «Вступленье», то есть концептуальная установка, ощутимо присутствует везде и во всем. Настоящим идеалом (если это выражение в данном случае уместно) является Евгений Онегин – один из тех немногих, кто мужественно избрал путь разума. Татьяна никак не проявила себя в качестве человека, трагически обречённого в схватке двух стихий: чувства и интеллекта, жизни и смерти. Автор – честь ему и хвала – говоря о Татьяне, не умалчивает лицемерно о разноприродных духовных и жизненных функциях мужчины и женщины – но определённо подчёркивает необходимость дифференциации двух противоположных начал. О Татьяне Лариной автор говорит именно как об идеале женщины, В чём суть идеала?
По-своему органично он проявился уже в Ольге, между прочим, родной сестре Татьяны. Расхожий типаж («кокетка, ветреный ребёнок» – замечание, точнее, как всегда у Пушкина, глубоко продуманная характеристика, тем более ценно, что вырывается из уст влюблённого Ленского), он важен именно тем, что это типаж: всецело комический человек, которому неведомы раздирающие душу противоречия сердца и ума, поскольку сердце женщины так устроено, что не допускает появления равновеликого оппонента. «Ум с сердцем не в ладу» (суть формулы «горе от ума») в женской интерпретации подвергается существенной корректировке: сердце всегда право (более фривольно, но не менее точно: если женщина хочет…).
Разумеется, Татьяна не только не лишена своего «родового» признака, но он даже усилён совершенно особым, только ей присущим шармом. «Комизм» человеческой натуры если не абсолютизированно, то наиболее полно и глубоко проявляющийся именно в женщине (вспомним, кстати: Онегин в своё время был «подобен ветреной Венере»…), в Татьяне обрёл привлекательную цельность и гармоничность. Она – естественный продукт природы. «Всё тихо, просто было в ней»: даже высший свет своей культурой не изменил её натуры. Она – продолжение природы (ни больше, ни меньше: см. прописанные в деталях условия жизни и воспитания), её орган и наиболее восхитительное проявление: со стихийными зачатками величия (отсюда – недетская задумчивость, склонность к глубоким, «умным чувствам», потрясающая интуиция, позволяющая выделить именно Онегина, и даже предчувствовать его судьбу).
Ум же – дело сугубо мужское. Наделив Татьяну «недугом», автор сам бы развенчал свой идеал. Но умный автор этого не сделал.
Общаясь с женщиной – общаешься с природой. Вот почему Онегин, отторгая природу, отверг и совершенства Тани. Дело не в том, что Онегин оказался не на должной высоте и недооценил Татьяну (он как раз знал ей цену:
Нашед мой прежний идеал, (какое согласие с автором!)
Я, верно б, вас одну избрал
В подруги дней моих печальных…);
дело в том, что он оказался не готов к союзу со своей собственной «комической» изнанкой, своей первой природой (и, разумеется, с возможной невестой). Кстати, автор и здесь (не без мягкой иронии) с ним согласен:
Меж тем как мы, враги Гимена,
В домашней жизни зрим один
Ряд утомительных картин…
Ирония относится вот к чему: на то же самое можно посмотреть иными глазами; правда, для этого надо стать иным (искушённый автор, как всегда, духовно опережает растущего Онегина).
Преображение Онегина (возвращение к старому – на новый лад, что и является, собственно, полноценным обновлением) началось уже до дуэли; дуэль укоренила перелом; завершился же цикл становления духа в столице, в свете – там, где Евгения настигла хандра и вынудила покинуть город. Круговое построение сюжета, подобно диалектической спирали, символизирует целостность, завершённость, самодостаточность – и вместе с тем открытость, готовность к обновлению.
Присмотримся к скупому, но информационно очень насыщенному авторскому комментарию возвращения к истокам. Появление блудного Онегина свет – неизменный, самотождественный, вечно комический свет(т. е. практически – все люди), не изведавший школы разума – встречает, как и следовало ожидать, «неблагосклонно». С точки зрения света, трагическое прозрение равнозначно шутовскому «корченью чудака». (Поистине свет сошёл с ума: всё поставил с ног на голову!) Настороженный приём спровоцировал пафосную тираду, где автор решительно встаёт на сторону друга, горько осознавая, насколько тот выше «самолюбивых ничтожностей и насколько трагически одинок по причине своего превосходства. Одинок – по одной-единственной, вечно злободневной причине: он, к счастью для себя как для личности, стремящейся к самореализации (через самопознание) и таким образом выполняющей свой высший гуманистический долг, и к несчастью для себя как для одного из «избранной толпы» – непростительно, вызывающе умён и, вследствие этого, ориентирован на высшую свободу. Его, светского человека, ум и одарённость перестают быть его личным делом, поскольку предлагают иной взгляд на мир, иную систему ценностей, по сравнению с которой обычные люди «как вы да я, как целый свет», глядящие на жизнь «как на обряд», оказываются теми, кто они есть на самом деле: «посредственностями «. Онегин покушается на святая святых – на охранительную идеологию, вскрывая её насквозь комический, приспособительный характер. Онегин, скажем прямо, не просто захандрил, а стал угрожать основам жизни.
Разумеется, такое не прощается. Это странно, ненормально, он «корчит чудака» или, наконец, «сатанического урода», даже «демона» (в святом деле защиты жизни в выражениях можно не стесняться). Витающая тень «сумасшедшего» Чацкого («Он возвратился и попал, Как Чацкий, с корабля на бал») подчёркивает архетипичность ситуации.
В широком смысле на противостояние общества и Онегина, его продукта и антипода, можно посмотреть как на «поединок роковой» психики и сознания, натуры и рациональной культуры. Если в своём духовном хозяйстве Евгений навёл относительный порядок, подчинив мятежи страстей и иррациональных порывов логическому, умственному началу (он относительно познал себя, а значит всех остальных, человека как такового), и тем самым самоутвердился, вкусив от древа познания, отделился от природы, встал над ней и просто осмелился взять принадлежащее только человеку право (кому ж ещё?) мыслить, судить – то «с точки зрения» психики (и обожествляющего витальные потребности общества) он вскормил её «врага», нарушил извечный закон жизни, передав стратегические мировоззренческие функции не диктатуре тёмных страстей, а просветляющему душу рассудку. Слепые страсти регулируют жизнь (когда разум спит), а разбуженный ум объясняет глупость страстей: Онегин проник в потаённую «механику» жизни – и замер от дерзости прозрения:
Дожив без цели, без трудов
До двадцати шести годов,
Томясь в бездействии досуга,
Без службы, без жены, без дел,
Ничем заняться не умел.
Если приложить к герою не только иронически перечисленные мерки «обряда», но и критерии индивидуального эволюционного «темпоритма», то мы должны будем признать, что духовная содержательность жизненной паузы – отдадим должное сверхтонкости автора – несомненна. Жизнетворчество – вот чем занят бездействующий герой.
Война, объявленная Онегину обществом – это война между человеком комическим (психологическим) и человеком величественным (разумным, а значит – трагическим). Эти две модели культурного человека различаются типом сознания, типом управления сложнейшим информационным комплексом под названием человек – следовательно, типом духовности. Онегин впервые честно явил миру реальные проблемы реального человека, развенчав мифические достоинства мифического человека. Культуре чувств, страстей он противопоставил культуру холодных наблюдений, увенчанный идеей порядка, общей гуманистической концепцией.
«Горе от ума» имеет много смыслов: в отношении личности ум создал предпосылки величия, тут же назначив за колоссальный прорыв не всем посильную цену: отныне – трагичен; в отношении к обществу наличие ума – достаточный повод объявить человека врагом или, что хуже, сумасшедшим (вот где дьявольский ход: мыслителя – отождествить с безумцем). Стоит или нет личность, сконцентрировавшая в себе главное противоречие человека и культуры (и осознававшая его как главное), того, чтобы стать героем «громадного» романа? Стоило или нет автору «Руслана и Людмилы» рискнуть репутацией и открыто встать на сторону духовности, реально освобождающей человека от миражей??
Сам факт такого романа говорит о разумной вере в безусловные достоинства и неискоренимую жизнестойкость человека. Сам роман – памятник человеку. Кстати, почему воздвигнутый «долгим трудом» памятник обрёл в конечном счёте форму романа в стихах?
Пушкин прекрасно осознавал различие между романом и романом в стихах. Общеизвестная цитата из письма к П.А. Вяземскому (3 ноября 1823 г.) давно стала приложением к «Евгению Онегину»: «Что касается до моих занятий, я теперь пишу не роман, а роман в стихах – дьявольская разница».
Если ответить на вопрос так: Пушкин написал роман в стихах потому, что был поэт – то это будет ответ совсем не на тот вопрос, который нас волнует. Я бы даже сказал, это по-детски наивный уход от ответа. Объяснять целесообразность романа в стихах гибкостью, эстетической завершённостью онегинской строфы, способной вместить любое содержание – это тоже уход от ответа. Значит ли это, что роман-эпопея или «просто» роман менее предрасположены к гибкости, открытости к разнородному содержанию и проч.?
Характеристика художественных возможностей строфы – тоже ответ совсем на другой вопрос. Да, генезис строфы, её впечатляюшие эстетические достоинства – всё это имеет не последнее значение. Однако это не объясняет главного: зачем писать непременно роман в стихах, если есть множество иных, не менее впечатляющих форм?