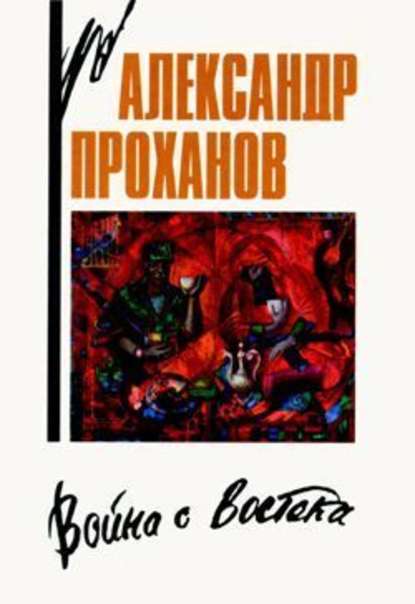По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Война с Востока. Книга об афганском походе
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Некуда приезжать!.. Забудь!.. Командир! – простонал он, увидев Калмыкова. – Пусть меня заносят на борт!.. К черту все!.. Надоело!..
Баранов, Грязнов и Беляев, прихрамывающий, страдающий от раны, грузили на борт личный состав. Калмыков летел вместе с ранеными до Ташкента, где ждал его другой самолет, в Москву, на доклад министру.
Он поднялся внутрь фюзеляжа. Там было сумрачно, желтела направляющая балка с лебедкой, светил сигнальный фонарь. Среди груды коробок, распухших чемоданов, упакованных ковров он увидел человека, не сразу узнав в нем Квасова.
Дипломат сидел среди своего багажа, тучный, в добротном пальто с бобровым воротником, насмешливо смотрел на Калмыкова, переступающего по клепаному полу.
– Ну вот, опять мы встретились, товарищ подполковник! Сделали каждый свое и смываемся, следы заметаем!.. О чем знаем, будем молчать, не так ли?
Он рассматривал Калмыкова, положив пухлую руку на кожаный чемодан, был ироничен, с барственным превосходством. Увозил в чемоданах благоприобретенное достояние, подарки жене и детям, тайные сувениры любовницам, вина, ковры, драгоценности, хромированные магнитофоны. Его не коснулась ищущая рука майора-особиста. Он был из тех, неприкасаемых, кто вечно прав и богат, знает тайные пружины политики, невидимые механизмы жизни, толкавшие его, Калмыкова, на штурм дворцов и казарм, окунавшие людей в копоть и кровь, бросавшие их на операционные столы и носилки.
– Вы подвиньте, пожалуйста, вещи. Здесь положат носилки с ранеными, – сказал он, не глядя на Квасова.
– Как я подвину! Они аккуратно уложены. Там стекло, хрусталь!
– Хрусталь?… А кости людские – не хрусталь?… А трупы не аккуратно уложены?…
Калмыков чувствовал, как слепое жгучее бешенство застилает глаза. Он ненавидит, готов застрелить этого сытого, в бобровом воротнике, человека.
– Валите к черту!.. Слышите!.. Вон!.. Башку продырявлю!..
– Да вы что! – защищался от его ненависти Квасов. – Не имеете права!.. Ответите!.. Я по личному распоряжению посла!..
– К едрене фене!.. Прапорщик! – крикнул Калмыков. – Выкинь это дерьмо с чемоданами!.. Чтоб духу не было!..
Прапорщик, кивнув солдатам, не слушая вопли Квасова, вытаскивал чемоданы и ящики, ковры и коробки с посудой, выкидывал их из кормы самолета на бетонные плиты.
– Ответите!.. Озверели от крови!.. Докладную послу!..
Квасов сбежал с самолета. Калмыков с наслаждением слушал хруст разбиваемого о плиты стекла, визг и хрип дипломата. И уже вносили на борт носилки, клали на пол раненых, и бутыль над головой Расулова роняла в трубку прозрачные капли.
Впервые страх смерти он испытал не за себя, а за бабушку. Это было в детстве, когда вдруг показалось, что бабушка, дремлющая в пятне зимнего желтого солнца, больше никогда не проснется и он останется один в опустевшем, враждебном мире с серым дымом из красной, кирпичной трубы, с обледенелым деревом за морозным окном. Этот страх, однажды возникнув, не исчезал никогда. Бабушка жила долго, дожила до его возмужания, но боязнь ее потерять не отступала, лишь меняла свои проявления. Это неотступное, бессознательное чувство воспитывало его веру в этику. Постоянное ожидание ее смерти превращалось в непрерывную молитву о продлении ее дней, и эта молитва была главным содержанием его детских переживаний. Когда бабушка умерла, молитва продолжалась. Он молился, чтобы там, куда она перешла, жизнь ее продолжалась и смерть ее пощадила.
Самолет звенел и дрожал, двигался по бетонному полю. Калмыков прижался лицом к иллюминатору. Из неба, из синевы возникали военные транспорты, снижались, касались земли, выбивали клубы резиновой гари, удалялись, вращая пропеллерами. Другие самолеты на дальнем краю аэродрома стояли под разгрузкой, из них вылезали зеленые фургоны, гусеничные транспортеры, тяжелые самоходки. Солдаты вытаскивали зарядные ящики, амуницию. Штурмовые вертолеты парами взмывали и уплывали в сторону гор. По краю аэродрома катили «бэтээры», разворачивались «боевые машины пехоты».
Калмыков смотрел в иллюминатор, готовый покинуть Кабул, и навстречу ему двигалась война, вливалась железом и гарью в солнечные предгорья. Повсюду блестел металл, вспыхивала вороненая сталь.
Он чувствовал, как в невидимый раструб вливалась война. Наполняла собой чашу кабульского аэродрома. Будет копиться, полниться, переливать через край, затопит кишлаки и долины, просочится по арыкам в засушливые степи. Он, Калмыков, соорудил этот раструб, эту пуповину войны. Он был тем, кто первый привел войну в эти земли.
Самолет разгонялся, взлетал. Качнулись, прижались друг к другу сидящие на железных лавках солдаты. Застонали беззвучно раненые, пропуская сквозь раны вибрацию фюзеляжа. Калмыков смотрел на мелькавшую землю, на которой его батальон оставил метины пуль, следы крови и пороха. Незавершенное военное дело, оставляя его завершение идущим на смену.
Самолет шевелил в синеве закрылками, покачивался с крыла на крыло, медленно возносился среди тесных глазурованных склонов, на которых застыли завитки снежных буранов, серебрились уснувшие метели. Земля, удаленная, в клетчатых кишлаках и полях, туманилась в огромной прозрачной линзе. Кабул казался картой в чешуйках и царапинах, в графике предместий и районов. И вдруг с высоты, вознесенный в синюю бесконечность, он увидел Дворец, бело-желтую каплю на сверкающих снегах. Голова закружилась от необъятной прозрачной глубины, на дне которой находился Дворец. Там, перед Дворцом, еще оставался на снегу след его башмака, ствол старой яблони, который он задел на бегу, лежали на ступеньках горстки смятых стреляных гильз.
Ему показалось, что он спит и это сон. Жизнь его прожита, и он в старости, в немощи, вспоминает этот город, и в тумане снежного солнца – видение Дворца.
Самолет повернул, и видение исчезло. Медленно текли за окном близкие пики хребта, и на них спиралями и свитками, как свернувшиеся пушные звери, лежали снега.
У него вдруг померкло в глазах, упало сердце. Ему показалось, что сейчас самолет взорвется. Где-то здесь, в упругих шпангоутах, заложен заряд. Стрелка часов приближает мгновение взрыва. Самолет расколется, и все они высыплются в обжигающий разреженный воздух, просыплются, как личинки, на снежные пики хребта. Самолет, обладающий грозной тайной, будет взорван, чтобы тайна навеки вмерзла в недоступный высотный ледник.
Ужас длился мгновение. Самолет мерно гудел, перекатывал по своему металлическому длинному телу плавные волны вибрации.
Он подошел к Расулову. Ротный дремал на своем брезенте, закрыв глаза. Резиновая трубка струйкой вилась над обнаженной рукой. В капельнице дрожала солнечная хрупкая капля. Калмыков положил ладонь на лоб Расулова. Лоб был влажный. Расулов, не открывая глаз, благодарно шевельнул губами. Некоторое время Калмыков держал ладонь на лбу Расулова, и они, соединенные вибрацией самолета, влажным дышащим теплом, пролетали над белыми вершинами.
Солдаты, сменившие афганскую серую форму на свою, зеленую, сидели на лавках, и по их лицам скользил едва различимый, слабый свет ледников. Калмыков вспомнил, как совсем недавно они летели в обратном направлении, огромная луна приближалась из черных пространств, и казалось, батальон летит на Луну.
Теперь они возвращались из космоса, ободранные о другие планеты, иссеченные жестокой радиацией, истратив на этот полет свои жизненные силы, земное, отведенное для жизни время. Вернутся на землю и найдут там другое тысячелетие, других обитателей, забывших о них, для которых они чужды и не нужны.
Ротный спал на брезенте, слабо шевелил губами под колючими усами. Калмыков наклонился, поцеловал его в лоб.
В Ташкенте он обеспечил погрузку раненых в санитарные машины. Роза, гадалка в черно-красном цветастом платке, шла за носилками Расулова, целовала его и плакала.
Машина перевезла Калмыкова на гражданский аэродром, где его поджидал белый нарядный лайнер, улетавший в Москву. Опаздывая, последним он поднялся по трапу, занял свое место в салоне.
Люди кругом старательно пристегивались ремнями. От женщины рядом с ним тонко и сладко пахло духами. Другая женщина, узбечка, в переливах разноцветного шелка, держала на руках ребенка. Черноглазый мальчик тянулся к Калмыкову, сжимал и разжимал кулачки, и Калмыков слегка отстранился от этих крохотных, с розовыми ногтями пальцев.
Люди кругом не знали о нем. Не знали, что он недавно стрелял, убивал, пробегал по кровавой луже, на руке его взбух сине-желтый рубец, а прокушенный во время атаки язык болит и ноет.
Он отстранился от ребенка, чтобы тот не коснулся его скверны, его болезни, не заразился от него.
Он дремал, проносясь в небесах по огромной плавной дуге.
Глава двадцать седьмая
После дневных хлопот, когда их дом затихал и мама засыпала, а он сквозь желтую горящую щелку заглядывал в соседнюю комнату, он видел: бабушка в белой ночной рубахе, в кружевном чепце лежит на кровати, держит в свете лампы маленькую книгу Евангелия. Образ золотится, медная пряжка тускло желтеет.
Бабушка вздыхала, клала книгу на грудь, лицо ее было задумчивым и мечтательным. Ее мысли витали вдалеке от тесной московской комнаты, в других землях, где в старинный город на белой ослице въезжает Христос. Толпа ликует, стелет на землю ковры, усыпает его путь цветами.
Эти евангельские рассказы и притчи он слышал от бабушки в детстве. Они не были просто сказаниями, служили не развлечению, а являлись историями ее собственной жизни, где совершалось нечто важное, глубокое и поучительное.
Премудрость слов и поступков тех давнишних людей служила для бабушки уроком и назиданием. Она постоянно училась, постоянно сравнивала свою жизнь с поведением тех людей.
На всю жизнь он сохранил убеждение, что существуют правила, по которым надлежит поступать, и эти правила записаны в книгу с золотым обрезом. Бабушка поступала по этим правилам, и кто-то невидимый, написавший книгу, был доволен бабушкой. К нему, невидимому, поднимала она глаза, лежа на деревянной, с витыми спинками, кровати в час московской полуночи.
Москва была в снегу, в скрипах, шелестах, в облаках бело-розового пара, в новогодних игрушках и елках. Он шел по улицам, наслаждаясь зимним, родным, с детства любимым городом, который принял его в свой январский мороз, не спрашивая, не ведая, откуда он вернулся.
Румяное московское небо. Синий, весь в инее троллейбус. Закутанная в шарф краснощекая красавица. Московская в теплых ботах старушка. Облупленная церковь. Темный памятник с белой снежной подушкой на голове. Заиндевелая в узорах витрина, где мигает зеленая елочка. Он шел в толпе, толкаемый, незамеченный, любил этот московский люд, одинаковый во все времена, и казалось, где-то рядом, в переулке, семенит бабушка, несет кошелку с хлебом, и он сам со школьным портфельчиком скользит с разбега по черному длинному накату, догоняет товарища в растерзанном пальто и ушанке.
Он пришел на прием к министру. Тот встал из-за стола, прошагал к нему по паркету, крепко пожал руку и усадил за маленький столик, на котором, выточенная из драгоценных сплавов, стояла модель подводной лодки. Им принесли чай в хрустальных стаканах и серебряных подстаканниках. Министр выслушал его доклад о проведенной операции, о деталях штурма, о потерях и пленных.
– В Чехословакии мы действовали крупными силами и не встретили сопротивления. В Кабуле сопротивление могло быть огромным, кровь могла быть большой, но вы справились с очень трудной задачей, отделались малой кровью. Ваши действия были профессиональны и свидетельствуют о высокой степени выучки.
Зазвонил телефон, один из многих, белых, черных и красных, с государственными гербами на дисках. Министр встал, снял трубку, выслушал терпеливо рокочущую мембрану. Негромко ответил:
– Пусть они дойдут до Кандагара в место дислокации. Месяц перетерпят в палатках, а потом мы им построим городки, прорубим скважины, и будут по асфальту кататься.
Министр закончил разговор и вернулся за столик.
– Мы вынуждены были взять под контроль процесс в Афганистане. События развивались не в нашу пользу, грозили нашему южному флангу. Могли отрицательно сказаться на ситуации в республиках Средней Азии.