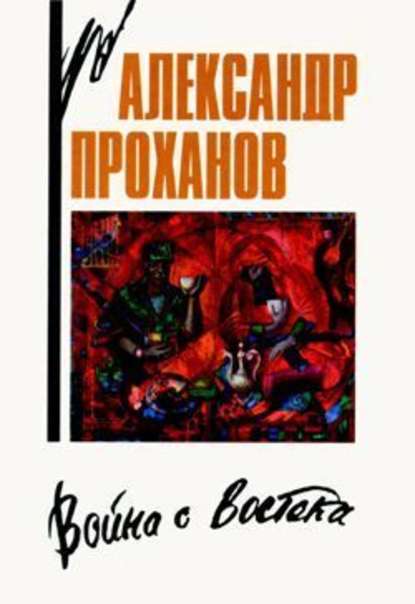По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Война с Востока. Книга об афганском походе
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Был очень богатый люди!.. Был очень бедный!.. Богатый ушел Пакистан!.. Бедный – в сольдат!.. Мы – не богатый, не бедный!.. Мы – офицер, гвардеец!..
И это казалось Калмыкову понятным, свидетельствовало о доверии, дружбе. Беляев проехал в «бэтээре» по городу, углядел из люка бесчисленные ларьки и прилавки, распростертых в витринах барсов, мишуру украшений, красные узоры ковров. Не имел ни гроша в кармане, но приценивался, приглядывался, выведывал у афганца цены на пушнину и золото.
Все они, сидевшие в застолье, гомонившие, пьющие водку, ронявшие на скатерть зерна риса и капли бараньего жира, были братья. Плыли, ухватившись за доски стола, в огромном безымянном потоке.
Расулов отодвинулся на стуле. Выхватил из сумерек гитару. Положил на колени рыжий гулкий короб. Ударил по струнам.
Прилетели мы в Баграм,
Очень мы устали,
А приехали в Кабул,
На охрану встали.
Развернули «бэтээр»
Пулеметом в горы.
Если сунутся к Дворцу,
То узнают горе…
Он пел, наклонив к гитаре черноусую голову, ярко скалился, надувал на шее пульсирующую жилу. Его косноязычная, наспех сочиненная песня вызывала у афганцев восхищение. Они притоптывали под столом, прищелкивали пальцами, прицокивали языками. Калмыков и сам восторгался этим энергичным бряцанием, яростной музыкой, бесхитростным стихом, в котором уместились впечатления от гончарного восточного города, лихость, вопреки всем тревогам, смелая бесшабашность, вопреки всем опасениям.
После Расулова пели афганцы. Они встали в рост, напрягая груди, одинаково встряхивая черноволосыми головами, пророкотали, прогудели, простонали воинственный гимн, в котором звучали непреклонность, отвага, готовность маршировать в боевых колоннах и что-то еще, сверх этого, от чего сердце у Калмыкова дрогнуло, сжалось болью, как бывало, когда он слушал песни минувшей войны. Если их долго слушать, то в глазах становилось горячо и туманно.
Но эта боль и это больное предчувствие продолжалось недолго, ибо все они, сидящие в застолье, не сговариваясь, по невидимому согласию и знаку, заулыбались, закивали и, сладостно, отрешенно закрыв глаза, запели «Подмосковные вечера», радуясь возможности произносить одни и те же слова, переживать одни и те же чувства. Калмыков не любил эту сентиментальную, петую-перепетую песню. Но, слушая ее здесь, в Кабуле, среди предзимних холмов, где прячется мятежник с винтовкой, несутся пули и падают убитые люди, он вдруг ощутил острую нежность к поющим. Многоголосый хор соединял их в братство по оружию, по судьбе, по военной доле.
Его душа, обремененная заботами и предчувствиями, устремлялась в лучистое, удаленное в бесконечность пространство. Он чувствовал молниеносный рост души, испытывал необыкновенный восторг, нежность. Из груди, из сердца рвался стремительный светоносный луч, сквозь косматую ткань мундира, сквозь глинобитную стену казармы, теснины гор, ночные тусклые тучи – ввысь, в беспредельность. Там, в этой беспредельности, нашел и коснулся безымянного, беспредельного, чудного и вернулся обратно, в грудь, в сердце, в сумрачную казарму.
Офицеры пели, коверкали, переиначивали петые-перепетые слова, а он не мог понять, где он только что побывал, с чем на мгновение встретилась его душа.
Очнулся от грохнувшего по столу удара. Маленький офицер афганец с плотными, прилипшими ко лбу волосами, с багровым накалившимся шрамом саданул кулаком по столу. Его лицо дергалось от множества мелких, сменявших одна другую гримас. Сквозь оскаленные свистящие зубы брызгала слюна. Он хрипел, выдыхал ненавидящие рокочущие слова. Все смолкли, слушали его хрип и клекот.
– Что говорит? – Калмыков обратился к переводчику, чье чуткое лицо, побледневшее, отражало лицо кричавшего, и казалось, на нем вот-вот выступит поперечный шрам. – Что он такое кричит?…
– Говорит, в партии засели предатели!.. В армии засели предатели!.. Предатели убьют революцию!.. Предатели убьют товарища Амина! Надо стрелять предателей!.. Он сейчас поедет в тюрьму Пули-Чархи, где сидят арестованные предатели, и расстреляет их своими руками!.. Он подвесит их к потолку и станет по кусочкам срезать с них кожу!.. И тогда они скажут, кто им платит деньги, чтобы убить революцию, убить товарища Амина!.. Он сам, своими руками, расстрелял в Герате восемнадцать предателей, прокравшихся в армию и партию!.. Стрелял и будет стрелять!..
Он хрипел, ненавидел, бил по столу кулаком. С ним случился припадок страдания. Его товарищи кинулись к нему, схватили за руки, унимали, лили в рот водку, а он хрипел, отбивался, грыз стакан, а потом вдруг утих, умолк. Сник над столом, качая скуластой плосконосой головой с побледневшим шрамом.
Грязнов обошел стол, налил в стакан водку.
– Лучше пить, чем бузить! – говорил он, булькая бутылкой. – Лучше пить, чем стекла бить!
Валех, огорченный случившимся, извиняясь перед гостями улыбкой, поднялся:
– Будем вместе всегда! Будем дружба всегда!.. Здравствует Советский Союз! Здравствует товарищ Хафизулла Амин!..
Все встали, чокались, пили. Снова гомонили и пели.
– Будем вместе всегда! – Валех наклонился к Калмыкову, горбоносый, глянцевитый от пота, шевеля мягкими, блестящими от водки губами. – Тебе подарок даю!.. Моя дружба тебе!..
Он снял с запястья браслет с часами. Под граненым хрустальным стеклом дрожала золотистая стрелка. Протянул Калмыкову.
Тот отстегнул свои, неоновые, с тусклым стеклом, истертым о пески и броню, поднес на ладони Валеху. Они обменялись часами, нацепили их на запястья, пожали друг другу руки.
– Твое время – мое! – смеялся Валех. – Мое время – твое!.. Живи по афгански время!
Чернявый офицер за столом что-то тихо бормотал, закрыв глаза, скрипел зубами. Внезапно поднимал тяжелые, липкие веки, и под ними горели, вращались ненавидящие безумные зрачки.
Они возвращались в свою недостроенную казарму, светя фонариками, выхватывая из тьмы серую каменистую тропку. Калмыков приотстал, пропуская мимо командиров рот, начальника штаба.
Хмельные, веселые, бестолково посмеиваясь, они глотали студеный ночной ветер гор.
– Что отстаешь, командир? – Файзулин ослепил его на мгновение фонариком, а потом перевел огонь на свое блаженное улыбающееся лицо. – Афганцы – мужики подходящие! Мусульмане, а пить умеют!
– Ступайте, я догоню! – отсылал их всех Калмыков, глядя, как удаляются, мигают, пересекаются лучики света.
Он не стал спускаться к казармам, а косо, по склону, двинулся к вершине холма, вырезая себе путь фонарем. Спотыкался, торопился, тянулся вверх, не понимая, зачем и куда идет. Достиг вершины и стал, задыхаясь.
Дворец в ночи сиял золотыми окнами, распуская в холодную тьму зарево света. Казалось, парит, не касаясь земли, упираясь в гору столбами огня. Опустился из неведомых запредельных высот. Вот-вот оттолкнется и взмоет. Уйдет, исчезнет, превращаясь в малую искру.
Калмыков стоял на холме, обдуваемый ледяным чистым ветром, смотрел на Дворец. Хотелось туда, в неведомые залы, где, казалось, идет ночной праздник, – наглядеться на убранство Дворца, на люстры, на драгоценные вазы, на наряды и лица танцующих. Дворец влек его, притягивал, манил таинственной красотой. С горящим лбом, улыбаясь, он тянулся на золотистое зарево. Медленно брел обратно, неся в себе видение Дворца.
Спустился к казарме, к глухому фасаду, где окна были затянуты брезентом, и за ними глухо, многоголосо урчала жизнь батальона.
Глава девятая
Уже курсантом училища, сделав военный выбор, он встречал Новый год под Москвой на даче художника-пейзажиста. Приехали московские гости – историки, студентка университета, зеленоглазая, насмешливая, милая. За столом он оказался с ней рядом. Острил, наливал в ее высокий бокал шампанское, а потом танцевал, играл в шарады то восточного принца, то рычащего первобытного зверя.
Уже было разбито несколько елочных игрушек, уже от бенгальских огней едва не вспыхнула занавеска, и толстяк историк, с седыми кудрями, поднялся на стул и читал свои вирши, когда они вдвоем, накинув шубы, выскользнули на воздух.
Ночной мягкий снег лежал на заборах, на деревьях, на деревянном столе и скамейках. Туманно голубела луна. Они поднимали головы, чувствовали разгоряченными лицами опадавшую холодную изморозь. Смотрели на голубоватую луну, на черную веточку, перечеркнувшую лунный круг. Он ее целовал, видел ее близкие закрытые веки, черную веточку, заслонившую круг луны.
Эта любовь была мгновенной, сильной, как расширяющиеся волны света, захватывающие в свое свечение необычные переживания, фантастические мысли, необыкновенные прочитанные книги, выученные наизусть стихи, удивительные знакомства и встречи. И среди всего этого была она, ее зеленые насмешливые глаза, пышные, душистые, щекочущие губы волосы, ее комнатка в деревянном доме в Сокольниках, где в открытую форточку залетал легкий снег, запах свежих булок, скрип проходящей электрички.
И в этой любви он впервые ощутил свою телесную силу и красоту, неутомимость гибких мускулов, когда бежал за ней по лыжне, видя, как скользят ее зеленые свистящие лыжи. Она оборачивалась к нему смеющимся розовым лицом, и потом плечом к плечу они лежали в душной темноте, и он, устало закрыв глаза, видел ее всю, от рассыпанных по подушке волос до кончиков пальцев, зная, что она принадлежит ему безраздельно, создана для него, все ее биения, шепоты, ароматы отданы ему, для него.
Любя ее, он вдруг остро и радостно открыл для себя природу. Драгоценность снега, в который вморожены сухие зонтичные цветы. Красоту туманного тяжелого ливня, грохочущего по дубам. Сочную густоту сине-желтых цветов в колее, на которой босые ноги оставляют черные чавкающие отпечатки. Его зрачки научились различать тончайшие оттенки синего цвета – неба в бело-розовых весенних березах, капель воды в чашечках красных осиновых листьев, вечерней зари с первой водянистой звездой.
Он понял глубину и величие родной истории, когда ездили в Александровскую слободу, обитель Грозного царя, взбирались на звонницу Ростова Великого, где на огромных колоколах, среди медно-зеленых рельефов ворковали голуби. Она, его милая, филолог, знаток древних текстов, читала письмена на каменных, вмурованных в стены плитах, – об усопших монахах и воинах. Любя ее, он любил ее вместе со старинными усадьбами и церквами, которыми любовались ее любимые зеленые глаза.
Он переживал мгновения полноты и могущества, когда господствовал над всем белым светом, заслоняя его от напастей, помещая в свою хранящую и спасающую любовь всех милых и близких, все живые и неживые творения.
Зима, снегопад, темная хрупкая веточка, отпечатанная на лунной поверхности.
Батальон обживался, осваивался. Роты повзводно водили машины в горах. Операторы «Шилок» наводили стволы зениток на далекие вершины, изрыгали из пушек струи огня, и вершины окутывались дымом, снаряды вырезали ниши в граните, рассеивали в небе каменную летучую пудру. Калмыкова заботили начавшиеся у солдат простуды и расстройства желудка – сказывались новая пища, климат, состав воды. В Кабуле действовал советский госпиталь, работали русские врачи. Их собирался навестить Калмыков.
Утром приехал Татьянушкин, на кофейной «тойоте», в кожаной куртке, в джинсах, похожий на спортсмена.
– Покатаемся, город посмотришь! – пригласил он Калмыкова, и тому было неясно, то ли это дружеское приглашение, то ли неявный приказ.
– Мне бы надо в госпиталь, – сказал Калмыков. – Медикаменты взять. А то личный состав прихварывает.
– Заскочим. Главврач – мой дружок. Получим таблетки!
И это казалось Калмыкову понятным, свидетельствовало о доверии, дружбе. Беляев проехал в «бэтээре» по городу, углядел из люка бесчисленные ларьки и прилавки, распростертых в витринах барсов, мишуру украшений, красные узоры ковров. Не имел ни гроша в кармане, но приценивался, приглядывался, выведывал у афганца цены на пушнину и золото.
Все они, сидевшие в застолье, гомонившие, пьющие водку, ронявшие на скатерть зерна риса и капли бараньего жира, были братья. Плыли, ухватившись за доски стола, в огромном безымянном потоке.
Расулов отодвинулся на стуле. Выхватил из сумерек гитару. Положил на колени рыжий гулкий короб. Ударил по струнам.
Прилетели мы в Баграм,
Очень мы устали,
А приехали в Кабул,
На охрану встали.
Развернули «бэтээр»
Пулеметом в горы.
Если сунутся к Дворцу,
То узнают горе…
Он пел, наклонив к гитаре черноусую голову, ярко скалился, надувал на шее пульсирующую жилу. Его косноязычная, наспех сочиненная песня вызывала у афганцев восхищение. Они притоптывали под столом, прищелкивали пальцами, прицокивали языками. Калмыков и сам восторгался этим энергичным бряцанием, яростной музыкой, бесхитростным стихом, в котором уместились впечатления от гончарного восточного города, лихость, вопреки всем тревогам, смелая бесшабашность, вопреки всем опасениям.
После Расулова пели афганцы. Они встали в рост, напрягая груди, одинаково встряхивая черноволосыми головами, пророкотали, прогудели, простонали воинственный гимн, в котором звучали непреклонность, отвага, готовность маршировать в боевых колоннах и что-то еще, сверх этого, от чего сердце у Калмыкова дрогнуло, сжалось болью, как бывало, когда он слушал песни минувшей войны. Если их долго слушать, то в глазах становилось горячо и туманно.
Но эта боль и это больное предчувствие продолжалось недолго, ибо все они, сидящие в застолье, не сговариваясь, по невидимому согласию и знаку, заулыбались, закивали и, сладостно, отрешенно закрыв глаза, запели «Подмосковные вечера», радуясь возможности произносить одни и те же слова, переживать одни и те же чувства. Калмыков не любил эту сентиментальную, петую-перепетую песню. Но, слушая ее здесь, в Кабуле, среди предзимних холмов, где прячется мятежник с винтовкой, несутся пули и падают убитые люди, он вдруг ощутил острую нежность к поющим. Многоголосый хор соединял их в братство по оружию, по судьбе, по военной доле.
Его душа, обремененная заботами и предчувствиями, устремлялась в лучистое, удаленное в бесконечность пространство. Он чувствовал молниеносный рост души, испытывал необыкновенный восторг, нежность. Из груди, из сердца рвался стремительный светоносный луч, сквозь косматую ткань мундира, сквозь глинобитную стену казармы, теснины гор, ночные тусклые тучи – ввысь, в беспредельность. Там, в этой беспредельности, нашел и коснулся безымянного, беспредельного, чудного и вернулся обратно, в грудь, в сердце, в сумрачную казарму.
Офицеры пели, коверкали, переиначивали петые-перепетые слова, а он не мог понять, где он только что побывал, с чем на мгновение встретилась его душа.
Очнулся от грохнувшего по столу удара. Маленький офицер афганец с плотными, прилипшими ко лбу волосами, с багровым накалившимся шрамом саданул кулаком по столу. Его лицо дергалось от множества мелких, сменявших одна другую гримас. Сквозь оскаленные свистящие зубы брызгала слюна. Он хрипел, выдыхал ненавидящие рокочущие слова. Все смолкли, слушали его хрип и клекот.
– Что говорит? – Калмыков обратился к переводчику, чье чуткое лицо, побледневшее, отражало лицо кричавшего, и казалось, на нем вот-вот выступит поперечный шрам. – Что он такое кричит?…
– Говорит, в партии засели предатели!.. В армии засели предатели!.. Предатели убьют революцию!.. Предатели убьют товарища Амина! Надо стрелять предателей!.. Он сейчас поедет в тюрьму Пули-Чархи, где сидят арестованные предатели, и расстреляет их своими руками!.. Он подвесит их к потолку и станет по кусочкам срезать с них кожу!.. И тогда они скажут, кто им платит деньги, чтобы убить революцию, убить товарища Амина!.. Он сам, своими руками, расстрелял в Герате восемнадцать предателей, прокравшихся в армию и партию!.. Стрелял и будет стрелять!..
Он хрипел, ненавидел, бил по столу кулаком. С ним случился припадок страдания. Его товарищи кинулись к нему, схватили за руки, унимали, лили в рот водку, а он хрипел, отбивался, грыз стакан, а потом вдруг утих, умолк. Сник над столом, качая скуластой плосконосой головой с побледневшим шрамом.
Грязнов обошел стол, налил в стакан водку.
– Лучше пить, чем бузить! – говорил он, булькая бутылкой. – Лучше пить, чем стекла бить!
Валех, огорченный случившимся, извиняясь перед гостями улыбкой, поднялся:
– Будем вместе всегда! Будем дружба всегда!.. Здравствует Советский Союз! Здравствует товарищ Хафизулла Амин!..
Все встали, чокались, пили. Снова гомонили и пели.
– Будем вместе всегда! – Валех наклонился к Калмыкову, горбоносый, глянцевитый от пота, шевеля мягкими, блестящими от водки губами. – Тебе подарок даю!.. Моя дружба тебе!..
Он снял с запястья браслет с часами. Под граненым хрустальным стеклом дрожала золотистая стрелка. Протянул Калмыкову.
Тот отстегнул свои, неоновые, с тусклым стеклом, истертым о пески и броню, поднес на ладони Валеху. Они обменялись часами, нацепили их на запястья, пожали друг другу руки.
– Твое время – мое! – смеялся Валех. – Мое время – твое!.. Живи по афгански время!
Чернявый офицер за столом что-то тихо бормотал, закрыв глаза, скрипел зубами. Внезапно поднимал тяжелые, липкие веки, и под ними горели, вращались ненавидящие безумные зрачки.
Они возвращались в свою недостроенную казарму, светя фонариками, выхватывая из тьмы серую каменистую тропку. Калмыков приотстал, пропуская мимо командиров рот, начальника штаба.
Хмельные, веселые, бестолково посмеиваясь, они глотали студеный ночной ветер гор.
– Что отстаешь, командир? – Файзулин ослепил его на мгновение фонариком, а потом перевел огонь на свое блаженное улыбающееся лицо. – Афганцы – мужики подходящие! Мусульмане, а пить умеют!
– Ступайте, я догоню! – отсылал их всех Калмыков, глядя, как удаляются, мигают, пересекаются лучики света.
Он не стал спускаться к казармам, а косо, по склону, двинулся к вершине холма, вырезая себе путь фонарем. Спотыкался, торопился, тянулся вверх, не понимая, зачем и куда идет. Достиг вершины и стал, задыхаясь.
Дворец в ночи сиял золотыми окнами, распуская в холодную тьму зарево света. Казалось, парит, не касаясь земли, упираясь в гору столбами огня. Опустился из неведомых запредельных высот. Вот-вот оттолкнется и взмоет. Уйдет, исчезнет, превращаясь в малую искру.
Калмыков стоял на холме, обдуваемый ледяным чистым ветром, смотрел на Дворец. Хотелось туда, в неведомые залы, где, казалось, идет ночной праздник, – наглядеться на убранство Дворца, на люстры, на драгоценные вазы, на наряды и лица танцующих. Дворец влек его, притягивал, манил таинственной красотой. С горящим лбом, улыбаясь, он тянулся на золотистое зарево. Медленно брел обратно, неся в себе видение Дворца.
Спустился к казарме, к глухому фасаду, где окна были затянуты брезентом, и за ними глухо, многоголосо урчала жизнь батальона.
Глава девятая
Уже курсантом училища, сделав военный выбор, он встречал Новый год под Москвой на даче художника-пейзажиста. Приехали московские гости – историки, студентка университета, зеленоглазая, насмешливая, милая. За столом он оказался с ней рядом. Острил, наливал в ее высокий бокал шампанское, а потом танцевал, играл в шарады то восточного принца, то рычащего первобытного зверя.
Уже было разбито несколько елочных игрушек, уже от бенгальских огней едва не вспыхнула занавеска, и толстяк историк, с седыми кудрями, поднялся на стул и читал свои вирши, когда они вдвоем, накинув шубы, выскользнули на воздух.
Ночной мягкий снег лежал на заборах, на деревьях, на деревянном столе и скамейках. Туманно голубела луна. Они поднимали головы, чувствовали разгоряченными лицами опадавшую холодную изморозь. Смотрели на голубоватую луну, на черную веточку, перечеркнувшую лунный круг. Он ее целовал, видел ее близкие закрытые веки, черную веточку, заслонившую круг луны.
Эта любовь была мгновенной, сильной, как расширяющиеся волны света, захватывающие в свое свечение необычные переживания, фантастические мысли, необыкновенные прочитанные книги, выученные наизусть стихи, удивительные знакомства и встречи. И среди всего этого была она, ее зеленые насмешливые глаза, пышные, душистые, щекочущие губы волосы, ее комнатка в деревянном доме в Сокольниках, где в открытую форточку залетал легкий снег, запах свежих булок, скрип проходящей электрички.
И в этой любви он впервые ощутил свою телесную силу и красоту, неутомимость гибких мускулов, когда бежал за ней по лыжне, видя, как скользят ее зеленые свистящие лыжи. Она оборачивалась к нему смеющимся розовым лицом, и потом плечом к плечу они лежали в душной темноте, и он, устало закрыв глаза, видел ее всю, от рассыпанных по подушке волос до кончиков пальцев, зная, что она принадлежит ему безраздельно, создана для него, все ее биения, шепоты, ароматы отданы ему, для него.
Любя ее, он вдруг остро и радостно открыл для себя природу. Драгоценность снега, в который вморожены сухие зонтичные цветы. Красоту туманного тяжелого ливня, грохочущего по дубам. Сочную густоту сине-желтых цветов в колее, на которой босые ноги оставляют черные чавкающие отпечатки. Его зрачки научились различать тончайшие оттенки синего цвета – неба в бело-розовых весенних березах, капель воды в чашечках красных осиновых листьев, вечерней зари с первой водянистой звездой.
Он понял глубину и величие родной истории, когда ездили в Александровскую слободу, обитель Грозного царя, взбирались на звонницу Ростова Великого, где на огромных колоколах, среди медно-зеленых рельефов ворковали голуби. Она, его милая, филолог, знаток древних текстов, читала письмена на каменных, вмурованных в стены плитах, – об усопших монахах и воинах. Любя ее, он любил ее вместе со старинными усадьбами и церквами, которыми любовались ее любимые зеленые глаза.
Он переживал мгновения полноты и могущества, когда господствовал над всем белым светом, заслоняя его от напастей, помещая в свою хранящую и спасающую любовь всех милых и близких, все живые и неживые творения.
Зима, снегопад, темная хрупкая веточка, отпечатанная на лунной поверхности.
Батальон обживался, осваивался. Роты повзводно водили машины в горах. Операторы «Шилок» наводили стволы зениток на далекие вершины, изрыгали из пушек струи огня, и вершины окутывались дымом, снаряды вырезали ниши в граните, рассеивали в небе каменную летучую пудру. Калмыкова заботили начавшиеся у солдат простуды и расстройства желудка – сказывались новая пища, климат, состав воды. В Кабуле действовал советский госпиталь, работали русские врачи. Их собирался навестить Калмыков.
Утром приехал Татьянушкин, на кофейной «тойоте», в кожаной куртке, в джинсах, похожий на спортсмена.
– Покатаемся, город посмотришь! – пригласил он Калмыкова, и тому было неясно, то ли это дружеское приглашение, то ли неявный приказ.
– Мне бы надо в госпиталь, – сказал Калмыков. – Медикаменты взять. А то личный состав прихварывает.
– Заскочим. Главврач – мой дружок. Получим таблетки!