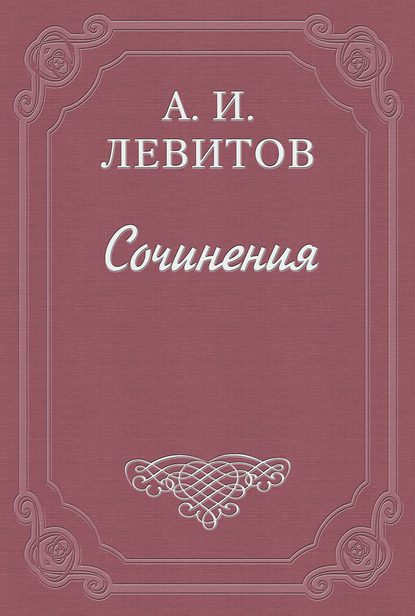По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Московские «комнаты снебилью»
Год написания книги
1863
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кор-ми-ит ко-о-ня сы-ы-та-а,
Сам ест сухари.
Песня закончилась наконец, к общей потехе населения комнат, зазвонистою кучерскою трелью, а с нею вместе закончилась и жизнь, желавшая сейчас одного счастья – взглянуть на человеческое лицо, – закончилась скрежетом зубов, хрипом надсаженной груди и желтою пеной на посиневших губах. Исковерканная тою безобразно-ужасающей печатью, которую смерть, в довершение эффекта, кладет на изможденные тела бедняков, жизнь эта сейчас же, вместо последней молитвы, накликает на себя – тем только, что умерла она, что понесла отдать свое несносное бремя к Зовущему всех труждающихся и обремененных успокоиться в нем – целый поток бессмысленных ругательств и проклятий.
Пришла Татьяна, неумытая, заспанная, растрепанная; взяла она эту повисшую, весь свой короткий, но трудный век старавшуюся быть честною, руку и сказала:
– А околел ведь… Лукерья! Беги скорее в фартал. Ах ты, голь перекатная! – добавила съемщица, поматывая головой, – кто теперича тебя, голь, в сырую землю схоронит?
Такие картины не настолько редки у нас, чтоб я не мог сказать про них правдивого слова, и сказал бы, если бы не боялся упреков в лиризме, без которого я решительно не могу ни поклоняться светлому лицу природы – единственному совершенству на всей земле, ни скорбеть о людской погибели, а потому пусть пойдет другая глава.
VI
Наружный вид дома с меблированными комнатами
Трудно чему-нибудь быть своеобразно грязнее столичных домов, заваленных разными русскими мастерскими. Выстроенные спекуляцией на манер всех вообще столичных громад, то есть на манер большого квадратного сундука, они до жильцов некоторое, весьма недолгое время ничем не отличаются от своих соседей, составляющих вместе с ними длинную улицу. Но вот вниз переехало Экипажное заведение Трифона Рыкова, рядом с ним в двухкомнатной квартире поселился сапожный мастер Самсон Соловьев, в бельэтаже какая-то толстая баба с страшным рубцом на лбу, словно бы от сабельного удара, и с шестью молоденькими горничными; в подвальной квартире, через двор, – извозчичий содержатель и какие-то старые отставные солдаты, вечно дерущиеся на дворе и кричащие караул; третий, самый верхний, московский этаж гостеприимно принял в свои невыразимо воняющие приюты орду комнат снебилью. И вот через какие-нибудь полгода ярко набеленные стены нового дома покрываются копотью; штукатурка, хотя умышленно ее никто и никогда не ломал, обваливается и кажет по местам красные кирпичные раны; окна же, особенно в квартирах у извозчиков и отставных солдат, вместо стекол залепливаются синей сахарною бумагой; в комнатах снебилью и у толстой бабы с многочисленными горничными заставляются подушками в пестрых ситцевых наволочках, – и вообще весь дом, видимо новый и крепкий, сразу как будто проживает пятьдесят лет, и кажется, что какая-то враждебная сила беспрестанно раскачивает его, ломит и валит. Печальными такими и расслабленными замарашками смотрят эти дома, как-то особенно скоро врастают в землю их фундаменты и скособочиваются, точно бы какой человек слабый, голова которого скривилась набок от первой жизненной тукманки. Глядя на бессмысленную грусть и тупую озадаченность, постоянно рисующиеся на лице такого человека, непременно подумаешь, что вот сейчас подкосятся его дрожащие ноги, что из широко выпученных, но тусклых глаз польются обильные слезы, а отвислые губы безотвязно запросят пощады…
Вот довольно схожий портрет дома, в котором поселилась Татьяна с своими жильцами. При первом взгляде на его каменное, неподвижное лицо всякий легко убеждался, что здесь поселилась бедность, в большей части случаев поневоле неразборчивая на те средства, при помощи которых она с жалобами и слезами доволакивается до темной могилы, где навсегда укроются ее грязные отрепья и успокоится необходимо-грязная и темная жизнь.
Но не веселее наружности описанных домов и внутренность их, с теми обыкновенными историями про жизнь своих жильцов, которые будут, пожалуй, гораздо печальнее унылого лица дома, приютившего в стенах своих всякого рода несчастье. Слушайте же эти истории – и тогда для вас, может быть, очень сбыточною покажется та мысль, что оттого печален столичный дом, заселенный бездомным народом, что даже бездушному камню нельзя не скорбеть при виде разнообразных мук этих людей, которые, вследствие безалаберно сложившейся жизни, отовсюду проливным дождем сыплются на их бездольные головы.
VII
Коридор комнат и его жильцы
И рад бы сказать, что по этой залитой помоями, расшатанной и без церемонии завешанной разным бельем лестнице, которая вела в Татьянины комнаты снебилью, можно ходить людям, – но для этого нужно быть самым наглым лжецом. Хозяин знал, для кого он строил свой дом, и потому предоставил владимирским плотникам полную волю гондобить его, как господь бог положит им на сердце. И в то время, когда плотники орудовали, капитальная борода, изредка наезжая к ним с своим хозяйским глазом, говорила.
– Ничего, не взыщут! Место здесь такое, для всякой швали удобное. Лет через пяток, господь ежели благословит, окупится домишко, а тогда его можно будет подрумянить маненько, подпереть, пообмазать – и побоку. Дураков тоже много; а не найдется охотников, застраховать можно… История тоже известная…
Про длинный коридор комнат тоже не могу сказать ничего особенно приятного. Темен он был, как ад, а кобель Бжебжицкого и соседство кухни, пропитанной своеобразным запахом щей и Лукерьиной постели, покрытой ее шубой из кислой овчины, сделали его до того вонючим, что свежий человек ни под каким видом не выносил его духоты более пяти минут. Однако же были люди, которые сжились с этою темнотой и вонью до полного равнодушия к ним, и мое собственное мнение в этом случае таково, что всякий человек, конечно не без некоторых усилий, может скоро привыкнуть к этим вещам, если у него хватит денег на покупку какого-нибудь кофеишка с хлебом и не хватит на бутылку ждановской жидкости, могущей очистить его апартаменты от заразительных миазмов, так вредно действующих на человеческие нервы вообще.
Привыкли, говорю, люди к удобствам своего коридора так, что и слезы у них есть, когда износятся башмачонки, поистратятся в безработье припасенные про черный день деньжишки, и смех тоже довольно легко вылетает из их грудей, когда каким-нибудь свободным праздничным днем, после рюмочки и пшеничного пирога, придется вспомнить с какою-нибудь давнишней подругой про былые годы, когда жили при местах, у хороших хозяев, когда были молоды лица и беззаботны души…
Все в этом коридоре одни только женщины жили. Сосчитать, сколько их там именно, узнать, что они платят за квартиру, чем живут, – не было никакой возможности. Видели только более или менее состоятельные жильцы, жившие в комнатах, что кишит что-то в коридоре безразличное и живое, – раскатываются в нем какие-то переменные волны, а какие именно – не знали и, конечно, не хотели знать, потому что не нужно было. Волны эти обыкновенно вливались в Татьянин коридор таким образом: живет-живет, бывало, какая-нибудь горемычная в почетных экономках у богатого холостяка так долго, что оба они в этом сожительстве половину зубов потеряют, разнообразя свою жизнь редким, а может быть, и частым погрызыванием друг друга, и поседеть тоже оба успеют. Привыкнет экономка к достатку, к хорошей комнате, к сладкой пище – и вдруг старичина нежданно-негаданно протягивает, как говорится, резвые ноги. Дальние родные великодушно подарили экономке старый салоп на беличьих лапках, да сама она успела фунтик-другой серебреца столового ухватить – и переехала к Татьяне в самую дешевую комнату.
– По одежке протягивай ножки! – говорила вдова, размещаясь в своем новом жилье. Надеяться теперь не на кого, а между тем привыкшая к куску губа нет-нет да и спросит либо супца с хорошей, настоящею, как в старину бывало, говядинкой, либо чайку внакладочку, либо винца красненького, которого до тошноты захотелось бабенке, с утра до вечера молчаливо размышляющей о привольной жизни при покойнике, – и вот серебро, ложка за ложкой, безвозвратно улетает в укладистые сундуки соседки-еврейки, а в конце концов случается обыкновенно то, что Татьяна, разнюхавшая, что жилица прогорела, благоразумно выпроваживает ее на жительство в коридор.
Часто также приходили к Татьяне молодые знакомые девицы с такими разговорами:
– Что теперь делать мне, милая Татьяна Ликсеевна? Ума не приложу.
– Что такое, что такое у тебя случилось? – спрашивает Татьяна Ликсеевна встревоженную девицу.
– Да что? Обобрал меня до нитки варвар-то мой. Уж он меня бил-бил, обобрамши-то, и говорит: теперь извольте идти, мамзель, куда вам угодно. Смеется, разбойник! Косу-то мне, злодей, всю повыдергал. Хочу в фартал идти; знакомые у меня там есть: защитят, может…
– Да за что же это он тебя? – осведомляется любопытная Татьяна. – Ведь вы допрежь дружно живали.
– Да за что? – откровенничает девица. – Ни сном, ни духом не знаю за что… Точно что по лету я как-то раза с три езжала в лагери к брату двоюродному (писарем при самом генерале вот уж сколько лет служит). Ему и помстилось; а я разве таковская?.. Сама небось знаешь, как я на своем слове завсегда стою. И довольно даже того, что я с ним который год живу, а он ревновать вздумал!..
– Что говорить! Что говорить! Экой безобразник какой! А я все говорю про него: вот, мол, смиренник-то полюбовник Грунин, – а он поди-ка какой! Как же ты теперь? Где жить-то покелича станешь?
– Да то-то не знаю. Ты мне, пожалуйста, каморочку отведи какую-нибудь, покуда с делами не справлюсь.
– Каморки-то у меня, девушка, нет теперь. Вчерась последнюю студент занял какой-то. Как бы знала, ни за что бы не отдала. Так уж и пустила, чтобы только не пустовала. Ты вот в коридорчике покелича на моем сундуке поместись. Чудесно тут нам будет с тобой. Без переводу тут у нас чай с кофеями пойдут.
Вследствие такого дружеского предложения молодая девица поселяется в коридоре, и долго ее рассказы про вырванную варваром косу и про двоюродного брата, генеральского писаря, развлекают однообразную жизнь темного жилья. Живет девица в коридоре и высматривает из его непроглядной темноты другого варвара, который бы вырвал ей вновь выращенную косу; точно так же и сожительницы ее, кухарки и горничные, как они про себя говорят – «без местов», живут так и высматривают себе местечки, с которых, по недолгом житии, снова погонят их с их унылым скарбом в Татьянины комнаты, где по случаю таких событий раздадутся, конечно, новые речи про новых хозяев, про новых людей, посещавших их, которые, по рассказам этого белорабочего люда, все будто бы без исключения мошенники, жидоморы, идолы, черти, подхалимы и т. д.
Отчего это принято называть такие кухарочные определения глупыми сплетнями, не стоящими внимания порядочного человека, а не истиной? Этот вопрос случайно зародился в моей голове, и, конечно, когда-нибудь так же случайно я разрешу его; а теперь скажу, что из всей этой безразличной коридорной толпы рельефнее даже самой Татьяны выступал некоторый субъект, известный в комнатах снебилью под именем Александрушки. Еще в то время, когда Татьяна только что осматривала квартиру, занимаемую ею в настоящую минуту, Александрушка сидела уже в коридоре у двери и вязала длинный шерстяной чулок, сморщенная и серьезная до полной неподвижности, в ситцевом линючем платье, с медными очками на большом носу, изображая собой как бы какого заколдованного сторожа, приставленного сторожить пустую квартиру.
От квартиры, в то время только что отделанной, несло сырым лесом, клеем и масляными красками. Нога человека не была еще в ней после печника, который, закончивши свою работу порядочною выпиванцией с одной соседней кухаркой, ушел и не возвращался даже и тогда, когда хозяин искал его для поправки печей, дымивших, как жерло ада, и потому дворник, рекомендовавший Татьяне прелести фатеры, по его словам, «за первый сорт», был справедливо удивлен этою старухой, безмолвно позвякивавшей спицами и неразборчиво шептавшей что-то своими тонкими, высохшими губами.
– Бабушка! Кто это тебя сюда пустил? – спросил дворник старуху; но старуха уперла в него своими светлыми очами, помахала головой, как будто удивляясь тому, что дворник не знает человека, устроившего ее в коридоре, и только. – Что же ты не говоришь? Ай немая? Говори! Хозяин, што ли, пустил? – расталкивал уже дворник молчаливое существо.
– Ты вот что, дворник, – прошептала наконец таинственная незнакомка, – ты не толкайся. Я губернская секретарша!
– Полно балы-то точить! – сердился дворник. – Сказывай: по чьему ты приказу здесь поселилась?
– И ты не смей мне говорить, мужлан! Я сказала тебе, кто я такая. – И барыня при этих словах энергично оттолкнула от себя заскорузлую дворницкую руку.
– А, так ты такая-то! Ты толкаться еще в чужой фатере вздумала! Сказывай: кто тебе приказал жить здесь?
– Бог! – удовлетворила наконец любопытного дворника губернская секретарша.
– Что ты с ней будешь делать? – спросил дворник уже у Татьяны с какою-то снисходительною полуулыбкой. – Надо, верно, в фартал идти объявить.
Губернская секретарша не обратила ни малейшего внимания на роковое слово «фартал» и по-прежнему продолжала звякать спицами, мотать головой и шептать что-то – должно быть, про свои одному богу только известные дела.
Квартальный пришел – и добился столько же, сколько и дворник.
– Как вы сюда попали? – спрашивал у старухи надзиратель.
– А так и попала… – отвечала она с видимым неудовольствием. – Как попадают-то, разве не знаешь?
– Говорите, кто вы такие? Давайте ваши документы.
– Молод еще документы-то спрашивать! Начальник какой выискался! Молоко-то на губах обсохло ли?
Доложили об этом происшествии хозяину. Тот пришел и долго стоял перед старухой, поглаживая бороду в великой задумчивости и по временам осклабляясь. Самовольная постоялка тоже ничего не говорила и даже ни разу не взглянула на него, сосредоточенно уткнувшись в свой чулок. Наконец хозяин сказал дворнику:
– Бог с ей, Трофим, не трожь ее. Человек, видно, не простой, потому большим сурьезом и молчальностью от бога награжон…
– А как же, хозяин, – вступилась было Татьяна, – мне-то с ней быть? Ведь уж платежа от ней не добьешься, а я бы на ее место всегда нашла жилицу с капиталом…
Тут хозяин почти так же серьезно, как и Александрушка, сморщил свои черные брови и внушительно заговорил:
– Мне, – говорит, – милая ты женщина, пребывание в моем доме прозорливого человека не в пример твоей платы дороже. Может, она нечестия твоего ради наслана вон откуда… – и при этом хозяин торжественно указал на потолок. – Так-то. Потому так, милая женщина, рассуждаю я про тебя, что допрежь тебя ни в одном моем доме таких историев никогда не было, хотя точно-что благочестивые люди помногу и подолгу у меня пребывают…
Опять же и солдатка ты: всякому греху, значит, ты больше нашего брата причастна. Следовательно, для одной тебя энто устроено, и ты должна все эфто понимать и ценить…
– Так вы, ваше степенство, скинули бы мне за нее хоть полтинничек в месяц за фатеру. Вы люди богатые.
Сам ест сухари.
Песня закончилась наконец, к общей потехе населения комнат, зазвонистою кучерскою трелью, а с нею вместе закончилась и жизнь, желавшая сейчас одного счастья – взглянуть на человеческое лицо, – закончилась скрежетом зубов, хрипом надсаженной груди и желтою пеной на посиневших губах. Исковерканная тою безобразно-ужасающей печатью, которую смерть, в довершение эффекта, кладет на изможденные тела бедняков, жизнь эта сейчас же, вместо последней молитвы, накликает на себя – тем только, что умерла она, что понесла отдать свое несносное бремя к Зовущему всех труждающихся и обремененных успокоиться в нем – целый поток бессмысленных ругательств и проклятий.
Пришла Татьяна, неумытая, заспанная, растрепанная; взяла она эту повисшую, весь свой короткий, но трудный век старавшуюся быть честною, руку и сказала:
– А околел ведь… Лукерья! Беги скорее в фартал. Ах ты, голь перекатная! – добавила съемщица, поматывая головой, – кто теперича тебя, голь, в сырую землю схоронит?
Такие картины не настолько редки у нас, чтоб я не мог сказать про них правдивого слова, и сказал бы, если бы не боялся упреков в лиризме, без которого я решительно не могу ни поклоняться светлому лицу природы – единственному совершенству на всей земле, ни скорбеть о людской погибели, а потому пусть пойдет другая глава.
VI
Наружный вид дома с меблированными комнатами
Трудно чему-нибудь быть своеобразно грязнее столичных домов, заваленных разными русскими мастерскими. Выстроенные спекуляцией на манер всех вообще столичных громад, то есть на манер большого квадратного сундука, они до жильцов некоторое, весьма недолгое время ничем не отличаются от своих соседей, составляющих вместе с ними длинную улицу. Но вот вниз переехало Экипажное заведение Трифона Рыкова, рядом с ним в двухкомнатной квартире поселился сапожный мастер Самсон Соловьев, в бельэтаже какая-то толстая баба с страшным рубцом на лбу, словно бы от сабельного удара, и с шестью молоденькими горничными; в подвальной квартире, через двор, – извозчичий содержатель и какие-то старые отставные солдаты, вечно дерущиеся на дворе и кричащие караул; третий, самый верхний, московский этаж гостеприимно принял в свои невыразимо воняющие приюты орду комнат снебилью. И вот через какие-нибудь полгода ярко набеленные стены нового дома покрываются копотью; штукатурка, хотя умышленно ее никто и никогда не ломал, обваливается и кажет по местам красные кирпичные раны; окна же, особенно в квартирах у извозчиков и отставных солдат, вместо стекол залепливаются синей сахарною бумагой; в комнатах снебилью и у толстой бабы с многочисленными горничными заставляются подушками в пестрых ситцевых наволочках, – и вообще весь дом, видимо новый и крепкий, сразу как будто проживает пятьдесят лет, и кажется, что какая-то враждебная сила беспрестанно раскачивает его, ломит и валит. Печальными такими и расслабленными замарашками смотрят эти дома, как-то особенно скоро врастают в землю их фундаменты и скособочиваются, точно бы какой человек слабый, голова которого скривилась набок от первой жизненной тукманки. Глядя на бессмысленную грусть и тупую озадаченность, постоянно рисующиеся на лице такого человека, непременно подумаешь, что вот сейчас подкосятся его дрожащие ноги, что из широко выпученных, но тусклых глаз польются обильные слезы, а отвислые губы безотвязно запросят пощады…
Вот довольно схожий портрет дома, в котором поселилась Татьяна с своими жильцами. При первом взгляде на его каменное, неподвижное лицо всякий легко убеждался, что здесь поселилась бедность, в большей части случаев поневоле неразборчивая на те средства, при помощи которых она с жалобами и слезами доволакивается до темной могилы, где навсегда укроются ее грязные отрепья и успокоится необходимо-грязная и темная жизнь.
Но не веселее наружности описанных домов и внутренность их, с теми обыкновенными историями про жизнь своих жильцов, которые будут, пожалуй, гораздо печальнее унылого лица дома, приютившего в стенах своих всякого рода несчастье. Слушайте же эти истории – и тогда для вас, может быть, очень сбыточною покажется та мысль, что оттого печален столичный дом, заселенный бездомным народом, что даже бездушному камню нельзя не скорбеть при виде разнообразных мук этих людей, которые, вследствие безалаберно сложившейся жизни, отовсюду проливным дождем сыплются на их бездольные головы.
VII
Коридор комнат и его жильцы
И рад бы сказать, что по этой залитой помоями, расшатанной и без церемонии завешанной разным бельем лестнице, которая вела в Татьянины комнаты снебилью, можно ходить людям, – но для этого нужно быть самым наглым лжецом. Хозяин знал, для кого он строил свой дом, и потому предоставил владимирским плотникам полную волю гондобить его, как господь бог положит им на сердце. И в то время, когда плотники орудовали, капитальная борода, изредка наезжая к ним с своим хозяйским глазом, говорила.
– Ничего, не взыщут! Место здесь такое, для всякой швали удобное. Лет через пяток, господь ежели благословит, окупится домишко, а тогда его можно будет подрумянить маненько, подпереть, пообмазать – и побоку. Дураков тоже много; а не найдется охотников, застраховать можно… История тоже известная…
Про длинный коридор комнат тоже не могу сказать ничего особенно приятного. Темен он был, как ад, а кобель Бжебжицкого и соседство кухни, пропитанной своеобразным запахом щей и Лукерьиной постели, покрытой ее шубой из кислой овчины, сделали его до того вонючим, что свежий человек ни под каким видом не выносил его духоты более пяти минут. Однако же были люди, которые сжились с этою темнотой и вонью до полного равнодушия к ним, и мое собственное мнение в этом случае таково, что всякий человек, конечно не без некоторых усилий, может скоро привыкнуть к этим вещам, если у него хватит денег на покупку какого-нибудь кофеишка с хлебом и не хватит на бутылку ждановской жидкости, могущей очистить его апартаменты от заразительных миазмов, так вредно действующих на человеческие нервы вообще.
Привыкли, говорю, люди к удобствам своего коридора так, что и слезы у них есть, когда износятся башмачонки, поистратятся в безработье припасенные про черный день деньжишки, и смех тоже довольно легко вылетает из их грудей, когда каким-нибудь свободным праздничным днем, после рюмочки и пшеничного пирога, придется вспомнить с какою-нибудь давнишней подругой про былые годы, когда жили при местах, у хороших хозяев, когда были молоды лица и беззаботны души…
Все в этом коридоре одни только женщины жили. Сосчитать, сколько их там именно, узнать, что они платят за квартиру, чем живут, – не было никакой возможности. Видели только более или менее состоятельные жильцы, жившие в комнатах, что кишит что-то в коридоре безразличное и живое, – раскатываются в нем какие-то переменные волны, а какие именно – не знали и, конечно, не хотели знать, потому что не нужно было. Волны эти обыкновенно вливались в Татьянин коридор таким образом: живет-живет, бывало, какая-нибудь горемычная в почетных экономках у богатого холостяка так долго, что оба они в этом сожительстве половину зубов потеряют, разнообразя свою жизнь редким, а может быть, и частым погрызыванием друг друга, и поседеть тоже оба успеют. Привыкнет экономка к достатку, к хорошей комнате, к сладкой пище – и вдруг старичина нежданно-негаданно протягивает, как говорится, резвые ноги. Дальние родные великодушно подарили экономке старый салоп на беличьих лапках, да сама она успела фунтик-другой серебреца столового ухватить – и переехала к Татьяне в самую дешевую комнату.
– По одежке протягивай ножки! – говорила вдова, размещаясь в своем новом жилье. Надеяться теперь не на кого, а между тем привыкшая к куску губа нет-нет да и спросит либо супца с хорошей, настоящею, как в старину бывало, говядинкой, либо чайку внакладочку, либо винца красненького, которого до тошноты захотелось бабенке, с утра до вечера молчаливо размышляющей о привольной жизни при покойнике, – и вот серебро, ложка за ложкой, безвозвратно улетает в укладистые сундуки соседки-еврейки, а в конце концов случается обыкновенно то, что Татьяна, разнюхавшая, что жилица прогорела, благоразумно выпроваживает ее на жительство в коридор.
Часто также приходили к Татьяне молодые знакомые девицы с такими разговорами:
– Что теперь делать мне, милая Татьяна Ликсеевна? Ума не приложу.
– Что такое, что такое у тебя случилось? – спрашивает Татьяна Ликсеевна встревоженную девицу.
– Да что? Обобрал меня до нитки варвар-то мой. Уж он меня бил-бил, обобрамши-то, и говорит: теперь извольте идти, мамзель, куда вам угодно. Смеется, разбойник! Косу-то мне, злодей, всю повыдергал. Хочу в фартал идти; знакомые у меня там есть: защитят, может…
– Да за что же это он тебя? – осведомляется любопытная Татьяна. – Ведь вы допрежь дружно живали.
– Да за что? – откровенничает девица. – Ни сном, ни духом не знаю за что… Точно что по лету я как-то раза с три езжала в лагери к брату двоюродному (писарем при самом генерале вот уж сколько лет служит). Ему и помстилось; а я разве таковская?.. Сама небось знаешь, как я на своем слове завсегда стою. И довольно даже того, что я с ним который год живу, а он ревновать вздумал!..
– Что говорить! Что говорить! Экой безобразник какой! А я все говорю про него: вот, мол, смиренник-то полюбовник Грунин, – а он поди-ка какой! Как же ты теперь? Где жить-то покелича станешь?
– Да то-то не знаю. Ты мне, пожалуйста, каморочку отведи какую-нибудь, покуда с делами не справлюсь.
– Каморки-то у меня, девушка, нет теперь. Вчерась последнюю студент занял какой-то. Как бы знала, ни за что бы не отдала. Так уж и пустила, чтобы только не пустовала. Ты вот в коридорчике покелича на моем сундуке поместись. Чудесно тут нам будет с тобой. Без переводу тут у нас чай с кофеями пойдут.
Вследствие такого дружеского предложения молодая девица поселяется в коридоре, и долго ее рассказы про вырванную варваром косу и про двоюродного брата, генеральского писаря, развлекают однообразную жизнь темного жилья. Живет девица в коридоре и высматривает из его непроглядной темноты другого варвара, который бы вырвал ей вновь выращенную косу; точно так же и сожительницы ее, кухарки и горничные, как они про себя говорят – «без местов», живут так и высматривают себе местечки, с которых, по недолгом житии, снова погонят их с их унылым скарбом в Татьянины комнаты, где по случаю таких событий раздадутся, конечно, новые речи про новых хозяев, про новых людей, посещавших их, которые, по рассказам этого белорабочего люда, все будто бы без исключения мошенники, жидоморы, идолы, черти, подхалимы и т. д.
Отчего это принято называть такие кухарочные определения глупыми сплетнями, не стоящими внимания порядочного человека, а не истиной? Этот вопрос случайно зародился в моей голове, и, конечно, когда-нибудь так же случайно я разрешу его; а теперь скажу, что из всей этой безразличной коридорной толпы рельефнее даже самой Татьяны выступал некоторый субъект, известный в комнатах снебилью под именем Александрушки. Еще в то время, когда Татьяна только что осматривала квартиру, занимаемую ею в настоящую минуту, Александрушка сидела уже в коридоре у двери и вязала длинный шерстяной чулок, сморщенная и серьезная до полной неподвижности, в ситцевом линючем платье, с медными очками на большом носу, изображая собой как бы какого заколдованного сторожа, приставленного сторожить пустую квартиру.
От квартиры, в то время только что отделанной, несло сырым лесом, клеем и масляными красками. Нога человека не была еще в ней после печника, который, закончивши свою работу порядочною выпиванцией с одной соседней кухаркой, ушел и не возвращался даже и тогда, когда хозяин искал его для поправки печей, дымивших, как жерло ада, и потому дворник, рекомендовавший Татьяне прелести фатеры, по его словам, «за первый сорт», был справедливо удивлен этою старухой, безмолвно позвякивавшей спицами и неразборчиво шептавшей что-то своими тонкими, высохшими губами.
– Бабушка! Кто это тебя сюда пустил? – спросил дворник старуху; но старуха уперла в него своими светлыми очами, помахала головой, как будто удивляясь тому, что дворник не знает человека, устроившего ее в коридоре, и только. – Что же ты не говоришь? Ай немая? Говори! Хозяин, што ли, пустил? – расталкивал уже дворник молчаливое существо.
– Ты вот что, дворник, – прошептала наконец таинственная незнакомка, – ты не толкайся. Я губернская секретарша!
– Полно балы-то точить! – сердился дворник. – Сказывай: по чьему ты приказу здесь поселилась?
– И ты не смей мне говорить, мужлан! Я сказала тебе, кто я такая. – И барыня при этих словах энергично оттолкнула от себя заскорузлую дворницкую руку.
– А, так ты такая-то! Ты толкаться еще в чужой фатере вздумала! Сказывай: кто тебе приказал жить здесь?
– Бог! – удовлетворила наконец любопытного дворника губернская секретарша.
– Что ты с ней будешь делать? – спросил дворник уже у Татьяны с какою-то снисходительною полуулыбкой. – Надо, верно, в фартал идти объявить.
Губернская секретарша не обратила ни малейшего внимания на роковое слово «фартал» и по-прежнему продолжала звякать спицами, мотать головой и шептать что-то – должно быть, про свои одному богу только известные дела.
Квартальный пришел – и добился столько же, сколько и дворник.
– Как вы сюда попали? – спрашивал у старухи надзиратель.
– А так и попала… – отвечала она с видимым неудовольствием. – Как попадают-то, разве не знаешь?
– Говорите, кто вы такие? Давайте ваши документы.
– Молод еще документы-то спрашивать! Начальник какой выискался! Молоко-то на губах обсохло ли?
Доложили об этом происшествии хозяину. Тот пришел и долго стоял перед старухой, поглаживая бороду в великой задумчивости и по временам осклабляясь. Самовольная постоялка тоже ничего не говорила и даже ни разу не взглянула на него, сосредоточенно уткнувшись в свой чулок. Наконец хозяин сказал дворнику:
– Бог с ей, Трофим, не трожь ее. Человек, видно, не простой, потому большим сурьезом и молчальностью от бога награжон…
– А как же, хозяин, – вступилась было Татьяна, – мне-то с ней быть? Ведь уж платежа от ней не добьешься, а я бы на ее место всегда нашла жилицу с капиталом…
Тут хозяин почти так же серьезно, как и Александрушка, сморщил свои черные брови и внушительно заговорил:
– Мне, – говорит, – милая ты женщина, пребывание в моем доме прозорливого человека не в пример твоей платы дороже. Может, она нечестия твоего ради наслана вон откуда… – и при этом хозяин торжественно указал на потолок. – Так-то. Потому так, милая женщина, рассуждаю я про тебя, что допрежь тебя ни в одном моем доме таких историев никогда не было, хотя точно-что благочестивые люди помногу и подолгу у меня пребывают…
Опять же и солдатка ты: всякому греху, значит, ты больше нашего брата причастна. Следовательно, для одной тебя энто устроено, и ты должна все эфто понимать и ценить…
– Так вы, ваше степенство, скинули бы мне за нее хоть полтинничек в месяц за фатеру. Вы люди богатые.