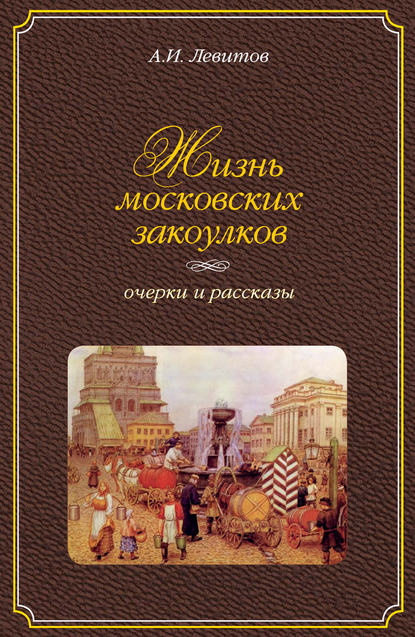По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, – говорил кто-нибудь из жильцов, – наслушается теперь Татьяна староверческих отвлеченностей! – Между тем сама Татьяна, слушая эти отвлеченности, пугливо хихикала над ними, как говорится, в сторону.
– Так-то, Татьяна Алексеевна! Ты вот как думаешь, что я здесь делаю, живучи у тебя? Ты ведь, знаю я, полагаешь, что я ничего не делаю, а так вот себе, баклуши бью!
– Как можно, Сафон Фомич, ничего не делать? – говорила Татьяна со стыдливой и старающейся быть почтительной улыбкой, – все что-нибудь по своим делам орудуете, а только, признаться сказать, не знаю что.
– Вот я тебе сейчас скажу, чем именно я у тебя орудую здесь, – вызывался Милушкин. – Я, милая ты моя, наблюдаю, есть ли в Москве человек, которому бы жить на этом свете хуже меня было. Вот что я делаю! Наблюдаю – и не нахожу, и скорблю душой от зависти, что вот люди – как люди, а я – ни богу свеча ни черту кочерга. Ты и то лучше меня. Изобью я тебя сейчас за это, бабнища дурацкая! Всякому злу ты причина, всякому доброму начинанию гибель.
– Эй, Сафон! опомнись, любезный! – уговаривали его соседи, выбежавшие на крик Татьяны, которую несчастный начинал уже поталкивать. – Поди лучше выпей, мы за водкой послали.
– Любезное дело! – соглашался Сафон. – Дурак я, вздумал с бабой раздабарывать. Плевать нужно на баб всегда, а не раздабарывать[80 - Раздабарывать – разговаривать, болтать.]. Пьем?
К-кому повем печ-ча-аль мою?
К-ко-о-го призову к рыданию?
обыкновенно запевал Сафон Фомич, когда начинал, как говорится, заговариваться. Всякий, кто только не ленился, мог сделать из него в это время своего шута.
– Ну, Сафон, – приставали к нему тогда со всех сторон, – расскажи, пожалуйста, как ты попал сюда, зачем и почему?
– Можно! – кричал Сафон. – Знаю, что вы смеетесь надо мной, бестии, а я расскажу, – в поученье ваше общее расскажу. Слушайте: «Родился я там, где-то, у черта на куличках; верстам отсюда до тех мест счету нет, только все эти версты я собственными моими ногами измерил, и все они – эти, т. е. ноги мои – и теперь еще от той меры долгой кровью сочатся. Ноют и визжат они у меня в тысячу больнее, чем вы ноете и визжите, когда вам Татьяна жрать не дает по неделе… Так-то!.. Что же я еще хотел сказать вам, ребятки? Да! Дедушка у меня был… Только лучше я про дедушку моего ни слова вам не скажу, потому что вы таких людей и во сне ни разу не видывали. Век ваш не такой и племя – иное. И про отца тоже ничего не скажу, потому что и меня одного станет про вашу потеху дурацкую. Всего лучше будет, – продолжал Милушкин, сердито наморщивая брови и как бы опамятовавшись, – ежели я про весь дом наш не буду говорить с вами; испугаетесь вы, пожалуй, до того этого дома, что и смеяться надо мной перестанете.
– Не по носу вам этот дом, ребята! – словоохотливо добавлял Сафон Фомич, расцвечая насильственной улыбкой свое лицо, всегда помрачаемое воспоминанием о родимом доме, – букет его, братцы, сразу перехватит вам носовые хрящи, даром что вы ребята обстреленные, ко всяким, следственно, ароматам привыкли.
– У нас, бывало, в дому по целым ночам мать, как Рахиль в Раме[81 - Рахиль в Раме – Плач Рахили о своих детях в Раме, одном из городов Палестины, описан в Библии в Книге пророка Иеремии.], стонала и убивалась, а седой дед, с морщинистым таким лицом, неподвижным и сильным, как гора каменная, тоже по целым ночам за толстой книгой в кожаном переплете сидел и дочь, от слез обезумевшую, ни одним взглядом, бывало, не пробовал утешить. Сидит, говорю, бывало, в переднем углу, как темная туча, и бубнит свою книжку; а в окна большой избы, освещенной тонким сальным огарком, такой-то крикливый ветер просился, – тоска!..
– Но и матери плакать, и деду благочестивым книжным чтением заниматься ничуть не мешали ужасы страшной лесной, северной ночи, потому что горе нашего дома было в тысячу раз страшнее этой ночи… Почему страшнее? Потому что про это разговаривать не велено было!.. Ха-ха-ха-ха! – истерически хохотал Сафон Фомич. – Не пикни! – кричали, – а то, говорят, других испугаешь… Ха-ха-ха-ха!
– Только я вам и об этом горе не буду больше толковать; лучше я вам расскажу про отцовы и про дедовы книжки, по которым я читать выучился. Это были толстые, почерневшие книги, которые угрюмо высматривали из темного переднего угла, где они обыкновенно лежали, – словно бы говорили ребятишкам эти книги, что вот-де, мальчуганы, какие мы сердитые! Много об вас хворосту исстегают, много волосенок повыдергают, когда будут вас учить вникать в нас! Только, бывало, картинками, нарисованными в них, и можно было подманить ребятенок к этим книгам. Подойдешь, начнешь перелистывать, а от листов пахнет воском и ладаном, божьим деревцом и кипарисом, и все они переложены узорчатым кружевом, разноцветными лентами и широкими прорезными древесными листьями. Не наглядишься, бывало, на книги, когда, осиливши первый страх, станешь рассматривать их. Особенно, я помню, занимали меня две картинки. Одна из них была в Псалтыре и изображала пророка и царя Давида, с золотым венцом на голове, поднятой к небу, где видны были зеленые верхи райских деревьев, со стволами густо-позолоченными, царь был в светлых, широких одеждах и с гуслями в руках. До того, бывало, досмотришься, глядя на эту картинку, что наяву шевелились пред тобой листья небесных садов, порхали в них и пели какие-то невиданные птицы, и царские гусли тоже пели вместе с ними до того сладко, что все сердце в тебе изноет, слушая эти песни. Опомнишься, возьмешь другую книгу, с другой, особенно памятной мне, картинкой: там, с молниями в карательно-распростертых руках, был изображен Господь Саваоф, в виде старца, парившего над землей на многокрылых ангелах…
– При взгляде на лицо разгневанного Бога, на эти змеистые, слегка подернутые золотом, молнии, летающие из его могучей руки, непременно, бывало, перекрестишься и зашепчешь: «Свят, свят, свят!» – потому что кажется тебе, как рассказывал дед про Страшный суд, что вот-вот сейчас колыхнется земля на своих основаниях и запылает всеобщим пожаром и что волны того пожара достигнут до самого неба…»
Тут старовер приходил в окончательный экстаз. Его маленькое, опушенное, впрочем, рыжей бородой, лицо гневно морщилось и светлело, на лбу ложились совершенно старческие, глубокие морщины, придававшие этому лицу выражение несокрушимой силы, и, злобно стуча кулаком по столу, Милушкин продолжал свой рассказ с таким горячим одушевлением, как бы нашел он сейчас противника, который насмерть оспаривает правду его рассказа:
«Воспитали меня эти книги для славы Бога моего, которую я неустанно хочу проповедывать. Что вы думаете, шуты вы, гробы повапленные[82 - …гробы повапленные, т. е. расписные (от старославянского «вапить» – расписывать красками, красить). Выражение означало: «несуразные».]? Может быть, проповедь моя загремела бы в уши ваши, как гром Саваофа, который в старой книге на картинке душа моя видела и слышала, может, она образумила бы вас, перекрестились бы вы от нея, может быть. Али нет, не перекрестились бы?.. То-то и я сам думаю, вряд ли, потому что душ у вас нет и сердец у вас нет, а есть только одни утробы…»
– Ну, будет, ребята! Пошалили – и баста! Ну-ка, кто мне нальет водочки? Ибо руки мои уже не двигаются, – заканчивал Милушкин, грустно поникнув головой на залитый водкой стол.
В трактире. Худ. А. Волков. Открытка начала XX в. Частная коллекция
А между тем все, что называется, храбрые выпивохи уже стеклись к Бжебжицкому на его закуску, которая, с каждой минутой свирепея все больше и больше, превратилась наконец в бурно шумящую оргию. Сначала выпивку разжигали воспоминания старовера, а потом уже настоящий ход и значение придали ей два неразлучные друга: один – отставной учитель гимназии, кривой и обезображенный оспой, по прозванию Степан Гроб, главная жизненная сладость которого заключалась в постановке, как он говорил, разных глубоких вопросов, а другой – некто уволенный студент Бенедиктов, прозванный за свою касту Никитой Пустосвятом, а за гигантский рост Високосным Годом, или отставным драбантом[83 - Драбант – здесь: верзила (от пол. drabant – телохранитель, вожатый).] его шведского королевского величества. Этот муж считался звездой первой величины на горизонте комнат снебилью за свое необыкновенно оригинальное умение играть на гитаре.
Високосный Год уже разошелся до такой степени, что его вариации начинали временами обращать на себя внимание самых пьяных; Бжебжицкий под эти звуки сладострастно разлегся на своем диване, задумчиво раскачивая в руке черешневый чубук; Амалии Густавовны и Адельфины Петровны, обманутые некоторыми мотивами, пробовали подпевать под гитару, но драбант не любил, чтобы кто-нибудь, а тем более какая-нибудь Адельфина или Степанида вмешивалась в его фантазии, и потому он время от времени во все свое громовое горло без церемонии кричал: «Цыц, бабы! не то гитарой головы разобью!»
– Где, где молодое поколение? – кричал Степан Гроб, напирая на некоторого молодца, прозванного одними – мистером Скимполем из «Холодного дома», другими же – Пляшущим Маколеем[84 - …прозванного одними – мистером Скимполем из «Холодного дома», другими – Пляшущим Маколеем. Мистер Скимполь – персонаж из романа Ч. Диккенса «Холодный дом», тип обаятельного денди, живущего на чужой счет. Имя английского историка и политического деятеля Т. – Б. Маколея (1800–1859) в 60-х гг. XIX в. стало широко известно в России, так как его «История Англии» в 1860–1865 гг. была издана в русском переводе.]. – Где оно, это новое поколение? – азартно переспрашивал Гроб, яростно вращая единственным глазом. – Уж не это ли? – доискивался он, тыкая пальцем в одного шестиклассника-гимназиста, тоже жильца комнат. – Это вовсе не молодое поколение, а это просто-напросто молодой пьяница!
– Браво! – заорал таким образом рекомендованный гимназист, конфузливо приседая от неестественного хохота. – Браво, Степан! (прибавить слово «Гроб» к имени своего бывшего учителя гимназистик все еще по старой памяти опасался). Я с тобой совершенно одинаких убеждений насчет молодого поколения.
– Поди к свиньям, губошлеп! – оттолкнул единомышленника грубый Гроб. – Коего черта ты смыслишь в этих делах?! Ступай-ка лучше паси овцы отца твоего.
Гимназистик вломился было в амбицию, но старовер не допустил разгореться порывам мальчика.
– Полно тебе связываться с этой заразой, юноша! – сказал Милушкин гимназисту. – Ты разве не видишь, что это пьяный циник? А пьяного циника, милый мой, от свиньи отличить невозможно. Хуже и гаже этого народа ни одной гадости во всей подсолнечной нет, ей-богу. Верь ты моему слову. У тебя отец-то кто был? Помещик? Ты, значит, за текущий месяц за мою квартиру сполна заплати: мне, знаешь, дружочек, взять негде, ей-богу! Стой, я тебя поцелую. Так-то, милый ты мой, береги свою юность, не пей, – скверно. Я лучше тебе про себя расскажу, потому ты сосунок еще, да и все вы, рабочие-то даже какие, как погляжу я на вас, сплошь сосуны. Ни кипучих кровей в ваших сердцах нет, ни размашистой силы в теле. Верно, – целуй! У меня теперь дома братишка такой же молоденький. Эхма!.. Так вот, дружок, и выучил меня отец грамоте, и принялся я те толстые книги читать. Читаешь, читаешь, бывало, и уснешь, а во сне представится тебе, как на ладони, Киев святой с пещерами, храмами, монастырями и широким Днепром. Ходил я, братец ты мой, в Киев взрослый уже, – недавно ходил; только, божусь тебе, точь-в-точь и во сне такой же Киев видел, какой он в самом деле есть… Не веришь? Так я тебе вот что скажу: я видел во сне Рим, и его Форум[85 - …Рим и его Форум – площадь в Риме между холмами Капитолием и Палатином, где была сосредоточена общественная и политическая жизнь древнего города. Окруженный великолепными базиликами и храмами, Форум является шедевром мировой архитектуры.], и его императоров, мучивших некогда христиан, Голгофу[86 - Голгофа – холм, где был распят Иисус Христос.] с тремя крестами, и поля окрестные Иерусалиму, по которым ходил Христос; видел, как процессия попа-Никиты на спор по Москве шла[87 - …как процессия попа Никиты на спор по Москве шла. – Имеется в виду шествие суздальского священника Никиты Добрынина (? – 1682) на диспут «о вере» в 1682 г. Этому активному члену «Кружка ревнителей благочестия» сторонники Никона дали прозвище «Пустосвят». Он яростно выступал против церковных реформ патриарха. В 1665 г. Пустосвят написал челобитную царю Алексею Михайловичу, доказывая незаконность внесенных по воле Никона исправлений, и требовал созыва «истинного собора» и «праведного суда с никонияны». Церковный собор 1666–1667 гг. лишил Никиту Пустосвята сана. Он принес покаяние, однако в 1682 г. вместе с другими раскольниками вновь выдвинул требование, чтобы церковь вернулась к «правоверию». 5 июля 1682 г. в Кремле состоялись «прения о вере», где Никита Пустосвят выступал в защиту древлего благочестия. На следующий день он был схвачен и казнен по приказу царевны Софьи.]; а теперь, когда я уже не отцовы, а другие книги читаю, – другое уже совсем вижу… И вот, милый мой мальчик, скоро, скоро развяжусь я с вами – с Татьянами: брошу скверну мою и пойду и пойду… Да! Ты верь мне… Боли мои, как отцы мои делали, растопчу я ногами своими в пути том…
А перед Степаном Гробом, вместо сраженного им Пляшущего Маколея, стоял уже другой юноша, высокий и стройный, бледный такой и серьезный. Не горячась и не рисуясь, тихо говорил он своему мрачному оппоненту:
– Опыт, – кто говорит против этого, – очень хорошая вещь, но жаль, что дальше своего носа он ничего не видит…
– Браво, Ваня! – хохотал Милушкин, вслушавшись в последние слова молодого человека. – Катай их с этой точки зрения. Спроси у них, куда они денут жизнь сердца, куда они денут мои вещие сны? Ха-ха-ха-ха! Куда они денут их?
– Валяй, бабы! Их не переслушаешь! – могуче крикнул отставной драбант его королевского шведского величества. – Теперь ваша очередь… – И он ударил на гитаре что-то такое, в одно и то же время и ноющее и веселое, от чего никакая русская бабья душа не может усидеть на месте. Одна из Адельфин сразу угадала, какую именно сельскую песню поет гитара артиста, голодающего несколько лет в городе, с целью подробнее изучить характер своего певучего друга.
Ах, где ты была,
Моя нечужая?
Ай в степи ты брала лен,
Ай ты с кем гуляла?[88 - «Ах, где ты была, моя нечужая?..» – куплет из старинной казацкой песни «Да и где же ты была, моя нечужая…»]
вскрикнула Адельфина вместе со звучно трепетавшими струнами, в одно мгновение переставши быть Адельфиной и делаясь, как в старину, послушной дочерью только что отколоченного дяди Петра, чернобровой утехой и работницей родимого дома. Родимая песня распрямила ее стан, сгорбленный развратом города; от зеленых полей, на которых растет пахучий лен, засветились потухшие глаза и закраснелись прежде времени поблекшие щеки…
– Охма! – гремит Високосный Год, заливая волнами, как стаи легких полевых пташек, щебетавших трелей комнату Бжебжицкого:
Ходи, изба, ходи, печь,
Хозяину негде лечь![89 - «Ходи, изба, ходи, печь, хозяину негде лечь!» – слова из старинной плясовой песни, которую часто исполняли цыганские хоры.]
орал он в поощрение девушки, и живо пальцы его уничтожали в гитаре тот разгул, с которым она спрашивала у нечужой, где она была, потому что нечужая на повторенный вопрос:
Ох! где же ты была,
Завалилася?
отвечала:
На дырявом я мосту
Провалилася!
И так-то скорбно и вместе с тем порывисто после этого заплакали струны, словно бы больная истерикой женщина, а Адельфина так-то плясала под этот плач, так-то она отчаянно отбивала дробь двухвершковым каблуком своего городского башмака, что все жильцы темного коридора, все эти Татьяны и Лукерьи наперерыв лезли к дверям и оттуда смотрели на нее, подставив почему-то под бороды свои руки, что обыкновенно делают Татьяны и Лукерьи тогда, когда их обуревает какое-нибудь сильное горе…
– Действуй! – закричал вдруг Сафон Фомич, бросившись в пляс с быстротой совершенно трезвого человека.
И пошло!..
Я лично, тоже жилец самой крайней комнаты снебилью, обращенной одним окном на двор, а другим упиравшейся в какую-то высокую кирпичную стену, пришел в это время к Бжебжицкому, лишь только заслышал топот знакомого трепака.
– Знаток я, брат, своего дела! – обратился ко мне Сафон, выделывая неимоверную присядку. – Что давно не пришел?
Я, любезный, такую тут без тебя фигуру отмочил, совсем новую! Жаль, что ты не видал. Ну, благо теперь пришел. Выпьем с тобой – и качнем старинную. Готовься, ребята!
Все откашлялись, а я зажмурил свои глаза, потому что не мог петь старинной, не зажмурившись…
Выпил Сафон Фомич, крякнул и, нюхнувши маленький кусочек хлебца, съел его, а потом уже начал: