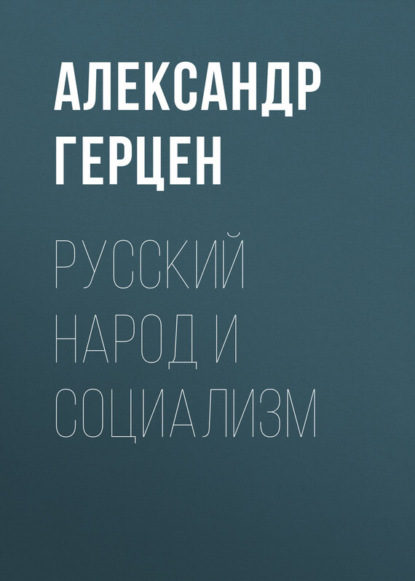По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Русский народ и социализм
Год написания книги
1852
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И Зимний дворец, как вершина горы под конец осени, покрывается все более и более снегом и льдом. Жизненные соки, искусственно поднятые до этих правительственных вершин, мало-помалу застывают; остается одна материальная сила и твердость скалы, еще выдерживающей напор революционных волн.
Николай, окруженный генералами, министрами, бюрократами, старается забыть свое одиночество, но становится час от часу мрачнее, печальнее, тревожнее. Он видит, что его не любят; он замечает мертвое молчание, царствующее вокруг него, по явственно доходящему гулу далекой бури, которая как будто к нему приближается. Царь хочет забыться. Он громко провозгласил, что его цель – увеличение императорской власти.
Это признание – не новость: вот уже двадцать лет, как он без устали, без отдыха трудится для этой единственной цели; для нее он не пожалел ни слез, ни крови своих подданных.
Все ему удалось; он раздавил польскую народность. В России он подавил либерализм.
Чего, в самом деле, еще хочется ему? отчего он так мрачен?
Император чувствует, что Польша еще не умерла. На место либерализма, который он гнал с ожесточением совершенно напрасным, потому что этот экзотический цветок не может укорениться на русской почве, встает другой вопрос, грозный, как громовая туча.
Народ начинает роптать под игом помещиков; беспрестанно вспыхивают местные восстания; вы сами приводите тому страшный пример.
Партия движения, прогресса требует освобождения крестьян; она готова принести в жертву свои права. Царь колеблется и мешает; он хочет освобождения и препятствует ему.
Он понял, что освобождение крестьян сопряжено с освобождением земли; что освобождение земли, в свою очередь, – начало социальной революции, провозглашение сельского коммунизма. Обойти вопрос об освобождении невозможно – отодвинуть его решение до следующего царствования, конечно, легче, но это малодушно, и, в сущности, это только несколько часов, потерянных на скверной почтовой станции без лошадей…
Из всего этого вы видите, какое счастие для России, что сельская община не погибла, что личная собственность не раздробила собственности общинной; какое это счастие для русского народа, что он остался вне всех политических движений, вне европейской цивилизации, которая, без сомнения, подкопала бы общину и которая ныне сама дошла в социализме до самоотрицания.
Европа, – я это сказал в другом месте, – не разрешила антиномии между личностию и государством, но она поставила себе задачею это разрешение. Россия также не нашла этого решения. Перед этим вопросом начинается наше равенство.
Европа, на первом шагу к социальной революции, встречается с этим народом, который представляет ей осуществление, полудикое, неустроенное, – но все-таки осуществление постоянного дележа земель между земледельцами. И заметьте, что этот великий пример дает нам не образованная Россия, но сам народ, его жизненный процесс. Мы, русские, прошедшие через западную цивилизацию, мы не больше, как средство, как закваска, как посредники между русским народом и революционной Европою. Человек будущего в России – мужик, точно так же, как во Франции работник.
Но если так, не имеет ли русский народ некоторое право на снисхождение с вашей стороны, милостивый государь?
Бедный крестьянин! На него обрушиваются все возможные несправедливости. Император преследует его рекрутскими наборами, помещик крадет у него труд, чиновник – последний рубль. Крестьянин молчит, терпит, по не отчаивается, у него остается община. Вырвут ли из нее член, община сдвигается еще теснее; кажется, эта участь достойна сожаления; а между тем она никого не трогает. Вместо того, чтобы заступаться за крестьянина, его обвиняют.
Вы не оставляете ему даже последнего убежища, где он еще чувствует себя человеком, где он любит и не боится; вы говорите: «Его община – не община, его семейство – не семейство, его жена – не жена: прежде чем ему, она принадлежит помещику; его дети – не его дети; кто знает, кто их отец?»
Так вы подвергаете этот несчастный народ не научному разбору, но презрению других народов, которые с доверием внимают вашим легендам.
Я считаю долгом сказать несколько слов по этому поводу.
Семейный быт у всех славян чрезвычайно сильно развит: это, может быть, единственный консервативный элемент их характера, предел их отрицанья.
Сельская семья неохотно дробится; нередко три, четыре поколения проживают под одним кровом, вокруг патриархально властвующего деда. Женщина, обыкновенно угнетенная, как это бывает везде в земледельческом сословии, пользуется уважением и почетом, когда она вдова старшего в роде.
Нередко вся семья управляется седою бабушкой… Можно ли сказать, что семья в России не существует?
Перейдем к отношениям помещика к крепостному семейству.
Но для большой ясности отличим норму от злоупотреблений, права от преступлений.
Jus primae noctis[6 - право первой ночи (лат.).] никогда не существовало в России.
Помещик не может законно требовать нарушения супружеской верности. Если б закон исполнялся в России, изнасилование крепостной женщины наказывалось бы точно так же, как если бы она была вольная, т. е. каторжною работою или ссылкой в Сибирь с лишением всех прав. Таков закон, обратимся к фактам.
Я не думаю отвергать, что при власти, данной правительством помещикам, им очень легко насиловать дочерей и жен своих крепостных. Притеснениями и наказаниями помещик всегда добьется того, что найдутся отцы и мужья, которые будут предоставлять ему дочерей и жен, точно так же, как тот достойный французский дворянин в «Записках Пеню», который в XVIII столетии просил, как об особенной милости, о помещении своей дочери в Parc aux cerfs[7 - Олений парк (фр.).].
Не удивительно также, что честные отцы и мужья не находят суда на помещика благодаря прекрасному судебному устройству в России; они большею частью находятся в положении того господина Тьерселен, у которого Берье украл, по поручению Людовика XV, одиннадцатилетнюю дочь. Все эти грязные гадости возможны: стоит только вспомнить грубые и развращенные нравы части русского дворянства, чтобы в этом убедиться. Но что касается до крестьян, то они далеко не равнодушно переносят разврат своих господ.
Позвольте мне привести этому доказательство.
Половина из помещиков, убиваемых своими крепостными (по статистическим данным, их число простирается от шестидесяти до семидесяти в год), погибает вследствие своих эротических подвигов. Процессы по таким поводам редки; крестьянин знает, что суды не уважат его жалоб; но у него есть топор; он им владеет мастерски и знает это тоже.
Ограничиваюсь этими намеками о крестьянах и прошу вас выслушать еще несколько слов о России образованной.
Вы смотрите так же не снисходительно на умственное движение России, как и на народный характер; одним почерком пера вы вычеркиваете все труды, совершенные до сих пор нашими скованными руками.
Одно из лиц Шекспира, не зная, чем унизить презренного противника, говорит ему: «Я сомневаюсь даже в твоем существовании!» Вы пошли далее, для вас несомненно, что русская литература не существует.
Привожу ваши собственные слова:
«Мы не станем придавать важности опытам тех немногих умных людей, которые вздумали упражняться в русском языке и обманывать Европу бледным призраком будто бы русской литературы. Если б не мое глубокое уважение к Мицкевичу и к его заблуждениям святого, я бы, право, обвинил его за снисхождение (можно даже сказать за милость), с которою он говорит об этой шутке».
Я напрасно доискиваюсь, милостивый государь, причин этого презрения, с которым вы встречаете первый болезненный крик народа, проснувшегося в тюрьме, этот стон, сдавленный рукою тюремщика.
Отчего не захотели вы прислушаться к потрясающим звукам нашей грустной поэзии, к нашим напевам, в которых слышатся рыдания? Что скрыло от вашего взора наш судорожный смех, эту беспрестанную иронию, под которой скрывается глубоко измученное сердце, которая, в сущности, – лишь роковое признание нашего бессилия?
О как я хотел бы достойным образом перевести вам несколько стихотворений Пушкина и Лермонтова, несколько песен Кольцова! Вы бы тогда нам тотчас протянули дружескую руку, вы бы первый попросили нас забыть сказанное вами!
После крестьянского коммунизма ничего так глубоко не характеризует Россию, ничто не предвещает ей столь великой будущности, как ее литературное движение.
Между крестьянином и литературою подымается чудовище официальной России – «Россия-ложь, Россия-холера», как вы ее назвали.
Эта Россия начинается с императора и идет от жандарма до жандарма, от чиновника до чиновника, до последнего полицейского в самом отдаленном закоулке империи. Каждая ступень этой лестницы приобретает, как в дантовских bolgi[8 - ямах ада (ит.).], новую силу зла, новую степень разврата и жестокости. Это живая пирамида из преступлений, злоупотреблений, подкупов, полицейских, негодяев, немецких бездушных администраторов, вечно голодных; невежд-судей, вечно пьяных; аристократов, вечно подлых: все это связано с обществом грабительства и добычи и опирается на шестьсот тысяч органических машин с штыками.
Крестьянин никогда не марается об этот мир правительственного цинизма; он терпит его существование – в этом его единственная вина.
Стан, враждебный России официальной, состоит из горсти людей, на все готовых, протестующих против нее, борющихся с нею, обличающих, подкапывающих ее. Этих одиноких бойцов от времени до времени запирают в казематы, терзают, ссылают в Сибирь, но их место не долго остается пустым; новые борцы выступают вперед; это наше предание, наш майорат.
Страшные последствия человеческой речи в России по необходимости придают ей особенную силу. С любовью и благоговением прислушиваются к вольному слову, потому что у нас его произносят только те, у которых есть что сказать. Не вдруг решаешься передавать свои мысли печати, когда в конце каждой страницы мерещится жандарм, тройка, кибитка и в перспективе Тобольск или Иркутск.
В последней моей брошюре[9 - «Du dеveloppement des idеes rеvolutionnaires en Russie». (Примеч. A. И. Герцена.)] я достаточно говорил об русской литературе; ограничусь здесь некоторыми общими замечаниями.
Грусть, скептицизм, ирония – вот три главные струны русской лиры.
Когда Пушкин начинает одно из своих лучших творений этими страшными словами:
Все говорят – нет правды на земле…
Но правды нет – и выше!
Мне это ясно, как простая гамма, –
не сжимается ли у вас сердце, не угадываете ли вы, сквозь это видимое спокойствие, разбитое существование человека, уже привыкшего к страданию?
Лермонтов, в своем глубоком отвращении к окружающему его обществу, обращается на тридцатом году к своим современникам со своим страшным
Печально я гляжу на наше поколенье: