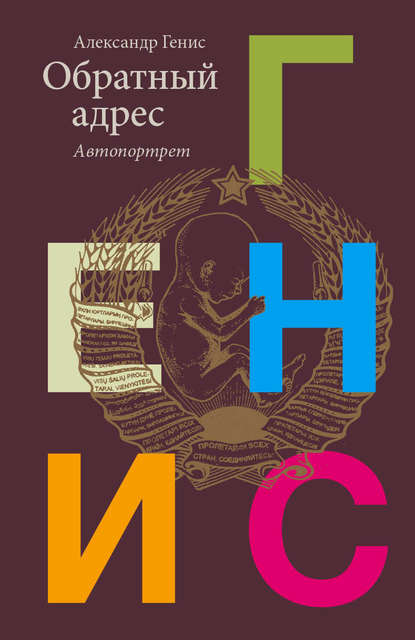По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Обратный адрес. Автопортрет
Жанр
Серия
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Причем тут Зяма? – дочитав до этого места спросила жена.
– Ни причем, – признался я, – но с евреями это бывает: дашь абзац, отхватят страницу.
2.
Когда в Саласпилсе построили атомный реактор, местных выселили из-за радиации. Мама в нее не верила и собирала грибы в обеденный перерыв. Опустевшие хутора, принесенные в жертву лишней, как впоследствии выяснилось, науки, быстро возвращались в первозданный вид – в хвойный, лес. В нем маму однажды испугал огромный – со слона – лось. Но он не покушался на грибы, и осенью мы ими ужинали, а зимой – закусывали. Весной же мама выращивала на подоконнике своего конструкторского бюро ранние помидоры со снежком на сломе. До Чернобыля было еще далеко, и мы наивно и безнаказанно наслаждались урожаем, собранным в окрестностях мирного атома.
Больше маслят и помидоров меня радовал экспортный, из ГДР, ватман, который мама тащила для меня с работы. Дома в дело впрягалась бабушка. Она разрезала непомерные листы портняжными ножницами, которые мы с ней ходили точить на базар к одноногому, как Сильвер из любимого нами обоими романа Стивенсона, точильщику, а потом толстой – «цыганской» – иглой она сшивала тяжелую бумагу в блокноты.
Каждый из них представлялся мне будущей книгой, только не понятно – какой. Объективная трудность заключалась в том, что я еще выучил не все буквы, субъективная – в том, что не решался пачкать невинные листы. Блокноты манили и пугали меня в равной степени, но я верил в них, как в скатерть-самобранку, которую Хрущев называл «коммунизмом» и обещал нынешнему – моему – поколению.
– Бумага всё стерпит, – говорили мне взрослые, но я до сих пор не верю, ибо написанное выворачивает наизнанку душу автора даже тогда, когда он делает все, чтобы ее скрыть. Нет, не «даже», а именно тогда, когда автор старается выглядеть на письме лучше, чем в жизни, он падает с пьедестала в лужу. Уж лучше сразу сдаться бумаге таким, какой есть, но для этого нужна либо отвага зрелости, либо равнодушие старости.
Страх перед чистым листом, как и страсть к нему, остались во мне навсегда, поэтому я предпочитал писать на полях. В том числе и буквально. В школьных тетрадях полагалось отчеркивать карандашом поля для того, чтобы учителя могли отмечать на них наши промахи. Поля были контрольной зоной и принадлежали власти. Отдавая себе отчет в их неприступности, я все равно нарушал границу, залезая на чужую территорию не из протеста, а потому что не умел рассчитать полет пера и траекторию мысли. Не заканчивавшееся вовремя слово, которое уже поздно было переносить на новую строку, вырывалось за карандашную черту и уродовало страницу. Мои тетради были шедевром неряшливости, и учителя скорбно демонстрировали их всему классу, причем не только нашему. Так еще октябренком я обрел одиозную славу: мою фамилию знал и коверкал директор школы.
Поля соблазняли меня и тогда, когда они перестали быть чужими. Пристроившись на обочине текста, поля привлекали неприхотливостью и необязательностью. В своем первом компьютере, напоминавшем допотопный телевизор «КВН», я завел файл «Маргиналии». Здесь я стал писать только то, что вздумается и лишь тогда, когда придется. Узнав об этом, мой тщеславный товарищ в расчете на посмертную славу потребовал, чтобы я его почаще цитировал. Я согласился, но поставил отношения с вечностью на деловую основу: каждое упоминание – доллар.
– Квотер, – возразил он, подсчитав ресурсы.
Пока мы торговались, компьютер сгорел от стыда, забрав с собой и его, и мои надежды. Пропажа меня не столько огорчила, сколько озадачила. Привыкнув считать всякую выходку судьбы не только наказанием, но и намеком, я увидал в аварии назидание свыше и стал вообще всё писать на полях, считая ими каждую заполненную страницу.
Легче не стало, но писать всегда тяжело, и облегчить бремя ужаса может только та наигранная безответственность, с которой я быстро, как в наше вечно холодное море, вхожу в текст, делая вид, что ничего большого и серьезного на полях все равно не пишется.
3.
Поступив в университет, я перебрался с бумажных полей на колхозные – нас отправили убирать урожай все в тот же Саласпилс.
Проучившись к тому времени без году неделю, я успел пресытиться ролью отличника. Дурацкое дело оказалось нехитрым, ибо на весь филологической факультет только я попал по доброй воле. Остальные боялись сдавать математику. Перед ней, положим, я тоже трепетал и уже в Америке ставил в тупик фрейдиста Парамонова, признаваясь, что в кошмарах меня мучают синусы. И все же филология стала для меня осмысленным выбором, ибо она подступала ближе всего к литературе. О ней я мечтал так застенчиво, что скрывал эту страсть даже от себя. Мне хватало того, что филология была полями словесности, и я надеялся оставить на них свою закорючку.
Другой, менее извилистый путь в печать лежал через журфак, но там изучали непостижимые предметы вроде «Основ сельского хозяйства», и я предпочел лингвистику, ставшую, как мне объяснил отец, вновь беспартийной после разоблачения культа личности Сталина. Остальным было все равно, что учить, и колхоз они считали праздником.
Мой филфак не отличался от других: по сравнению с девочками нас было слишком мало. Точнее – трое, потому что четвертого, поэта, сразу отправили в сумасшедший дом. Двое других были неопасны для окружающих, хотя один тоже писал стихи, а другой мечтал стать офицером и стал им. Я был еще хуже: наглый и неуверенный в одном лице. И все же в колхозе мне доверили лошадь. Другие вытаскивали свеклу из жидковатой балтийской почвы того же пасмурного цвета, что и сентябрьское небо. Собирая ящики с выкопанным, я объезжал поле стоя, а не сидя, на телеге, потому что видел, как это делают ковбои в единственном доступном вестерне чехословацкого производства «Лимонадный Джо».
По вечерам, после борща из той же свеклы, мы вели со студентками брачную игру в дурака. Чувствуя себя гостем в чужом гареме, я быстро научился выигрывать. Как Печорин – княжну Мэри, я изводил соперниц пристальным взглядом и вольной речью. Теряясь, они забывали подкидывать и оставались в дурах. Вывернулась лишь последняя, отбив мою карту благоразумно припасенным козырем. В награду за ничью я пригласил ее воровать цветы в ботанический сад.
– «Сажайте розы в проклятую землю», – написал про Саласпилс сидевший в здешнем лагере Эйжен Веверис.
Буквализировав метафору, Академия наук устроила на опушке леса между мемориалом и реактором парник, цветник и клумбу. Днем туда забредал садовник, вечером лоси, а ночью не было даже забора. Воспользовавшись этим обстоятельством и усыпляя совесть тем, что в беззащитном саду розы растят из чисто академического интереса, я отправился на охоту со спутницей и гнусными намерениями.
Дело в том, что той осенью у меня неторопливо разворачивался роман с молчаливой (она стала патологоанатомом) медичкой. По субботам мы ходили в филармонию, по воскресеньям слушали орган, в будни я скакал по полям и думал, как сдвинуться с мертвой музыкальной точки. Краденые розы на метровых стеблях, выросшие на сдобренном радиацией академическом черноземе, играли важную роль в моих тактических планах, которые я, естественно, не раскрыл подельнице. По пути к парникам я чинно говорил о любви к филологии. Но по дороге обратно, разгоряченные кражей и объединенные преступлением, мы сменили пластинку.
– «Ты у меня одна, словно в ночи луна», – пела она Визбора, а я слушал, коварно прикидывая, не завести ли мне второй роман на полях первого.
Меня извиняли экстраординарные обстоятельства. Ночь с просочившимися сквозь слоеные тучи звездами. Пронзительно пустая проселочная дорога, вертлявая, как лесная тропинка. В чаще, чудилось мне, громко дышали лоси. Жизнь только начиналась, но я уже боялся упустить случай, нутром догадываясь, что второго такого больше нигде, никогда и ни за что не будет. Сделав роковой шаг, я взял ее за руку и ощутил в ладони что-то мягкое и пушистое.
– Что это? – нежно спросил я.
– Мышь, – ни на секунду не задумавшись ответила она, и я позорно подскочил от ужаса, потому что всю жизнь панически боялся мышей, крыс и других мелких грызунов, кроме знакомого хомяка Бублика.
На самом деле это был толстый мохнатый листок полевого растения коровяк, который занял свое место в нашем гербе, ибо год спустя мы отправились к ее маме за приданым. В трамвае нам пришлось занять три места. Одно – для баула с двумя пуховыми подушками и девичьим (розовым) одеялом на вате. Вместе с Герценом, Белинским и слесарным набором оно пересекло океан, перекочевало к сыну и тихо окончило свои дни раньше нас.
Прошло сорок лет, но каждый раз, когда мы ссоримся, жена попрекает меня тем вечером в Саласпилсе:
– Вот гад, – ворчит она, – соблазнил и не бросил.
Колония Лапиня,
или
Поиски жанра
Твердо зная, чего хочу, я стыдился себе в этом признаться, пока не встретил Петю Вайля. Это произошло у нас за столом, на завтраке, который, вопреки названию, мог включать обед, ужин и участкового. Отец любил праздники больше жизни. Собственно жизнь его интересовала лишь в ожидании праздника, которое он ценил еще больше, умело растягивая по пути к рынку.
Туда мы ходили каждое воскресенье – до завтрака и ввиду него. Праздничной была уже дорога к базару, ибо натощак все казалось интереснее. За молодцеватым и нелепым в нашем старинном городе стеклобетонным вокзалом открывались ангары для дирижаблей, составлявших военно-воздушные силы независимой Латвии, так и не спасшие ее от соседа. После войны в них торговали снедью. Под ажурной крышей непомерной высоты летали голуби, ласточки, стрижи, воробьи и чайки.
– Ты еще скажи аисты, – ворчит жена, и чаек я вычеркиваю.
На открытом воздухе продавали сезонный товар. Осенью, которая в наших краях начиналась когда хотела, – лисичками (почему-то литрами), зимой – квашеной капустой с ледком, нежно хрустевшим на зубах. Весной лучше всех был румяный, как ангел, помидор ценой в чекушку. Но сколько бы он ни стоил, без него завтрак был неполным, ибо только томат умело оттенял малосольную латвийскую селедку и молодую картошку с того же базара. Всю эту роскошь венчал «Кристалл» из открывавшегося в одиннадцать магазина, который без дураков назывался «водочным».
Чем старше я становился, тем больше уходило водки и тем многолюднее оказывались завтраки. За ними легко смешивались, иногда выпадая в коридор, русские, латыши и евреи двух поколений. Но и в нашем вавилоне явление Пети произвело неизгладимое впечатление. Он выделялся всем и сразу: полный и румяный, Вайль тоже походил на ангела, но падшего. Не скрывая пороков, он пил больше всех, не переставая быть интересным – ни сверстникам, ни взрослым, ни, конечно, мне. Петя знал всё и учился на одни пятерки, вернее – их получал, потому что вообще никогда не учился, зато все читал. Причем собраниями сочинений. Когда мы познакомились, он добивал 30-томник Диккенса. Стихи из него выползали, как ленты из уст фокусника: беспрестанно и пестрые. Женскому полу – слезливое: «девочка пела в церковном хоре», нам – экзотическое: про жирафа на озере Чад, остальным – Сашу Черного.
– Ни причем, – признался я, – но с евреями это бывает: дашь абзац, отхватят страницу.
2.
Когда в Саласпилсе построили атомный реактор, местных выселили из-за радиации. Мама в нее не верила и собирала грибы в обеденный перерыв. Опустевшие хутора, принесенные в жертву лишней, как впоследствии выяснилось, науки, быстро возвращались в первозданный вид – в хвойный, лес. В нем маму однажды испугал огромный – со слона – лось. Но он не покушался на грибы, и осенью мы ими ужинали, а зимой – закусывали. Весной же мама выращивала на подоконнике своего конструкторского бюро ранние помидоры со снежком на сломе. До Чернобыля было еще далеко, и мы наивно и безнаказанно наслаждались урожаем, собранным в окрестностях мирного атома.
Больше маслят и помидоров меня радовал экспортный, из ГДР, ватман, который мама тащила для меня с работы. Дома в дело впрягалась бабушка. Она разрезала непомерные листы портняжными ножницами, которые мы с ней ходили точить на базар к одноногому, как Сильвер из любимого нами обоими романа Стивенсона, точильщику, а потом толстой – «цыганской» – иглой она сшивала тяжелую бумагу в блокноты.
Каждый из них представлялся мне будущей книгой, только не понятно – какой. Объективная трудность заключалась в том, что я еще выучил не все буквы, субъективная – в том, что не решался пачкать невинные листы. Блокноты манили и пугали меня в равной степени, но я верил в них, как в скатерть-самобранку, которую Хрущев называл «коммунизмом» и обещал нынешнему – моему – поколению.
– Бумага всё стерпит, – говорили мне взрослые, но я до сих пор не верю, ибо написанное выворачивает наизнанку душу автора даже тогда, когда он делает все, чтобы ее скрыть. Нет, не «даже», а именно тогда, когда автор старается выглядеть на письме лучше, чем в жизни, он падает с пьедестала в лужу. Уж лучше сразу сдаться бумаге таким, какой есть, но для этого нужна либо отвага зрелости, либо равнодушие старости.
Страх перед чистым листом, как и страсть к нему, остались во мне навсегда, поэтому я предпочитал писать на полях. В том числе и буквально. В школьных тетрадях полагалось отчеркивать карандашом поля для того, чтобы учителя могли отмечать на них наши промахи. Поля были контрольной зоной и принадлежали власти. Отдавая себе отчет в их неприступности, я все равно нарушал границу, залезая на чужую территорию не из протеста, а потому что не умел рассчитать полет пера и траекторию мысли. Не заканчивавшееся вовремя слово, которое уже поздно было переносить на новую строку, вырывалось за карандашную черту и уродовало страницу. Мои тетради были шедевром неряшливости, и учителя скорбно демонстрировали их всему классу, причем не только нашему. Так еще октябренком я обрел одиозную славу: мою фамилию знал и коверкал директор школы.
Поля соблазняли меня и тогда, когда они перестали быть чужими. Пристроившись на обочине текста, поля привлекали неприхотливостью и необязательностью. В своем первом компьютере, напоминавшем допотопный телевизор «КВН», я завел файл «Маргиналии». Здесь я стал писать только то, что вздумается и лишь тогда, когда придется. Узнав об этом, мой тщеславный товарищ в расчете на посмертную славу потребовал, чтобы я его почаще цитировал. Я согласился, но поставил отношения с вечностью на деловую основу: каждое упоминание – доллар.
– Квотер, – возразил он, подсчитав ресурсы.
Пока мы торговались, компьютер сгорел от стыда, забрав с собой и его, и мои надежды. Пропажа меня не столько огорчила, сколько озадачила. Привыкнув считать всякую выходку судьбы не только наказанием, но и намеком, я увидал в аварии назидание свыше и стал вообще всё писать на полях, считая ими каждую заполненную страницу.
Легче не стало, но писать всегда тяжело, и облегчить бремя ужаса может только та наигранная безответственность, с которой я быстро, как в наше вечно холодное море, вхожу в текст, делая вид, что ничего большого и серьезного на полях все равно не пишется.
3.
Поступив в университет, я перебрался с бумажных полей на колхозные – нас отправили убирать урожай все в тот же Саласпилс.
Проучившись к тому времени без году неделю, я успел пресытиться ролью отличника. Дурацкое дело оказалось нехитрым, ибо на весь филологической факультет только я попал по доброй воле. Остальные боялись сдавать математику. Перед ней, положим, я тоже трепетал и уже в Америке ставил в тупик фрейдиста Парамонова, признаваясь, что в кошмарах меня мучают синусы. И все же филология стала для меня осмысленным выбором, ибо она подступала ближе всего к литературе. О ней я мечтал так застенчиво, что скрывал эту страсть даже от себя. Мне хватало того, что филология была полями словесности, и я надеялся оставить на них свою закорючку.
Другой, менее извилистый путь в печать лежал через журфак, но там изучали непостижимые предметы вроде «Основ сельского хозяйства», и я предпочел лингвистику, ставшую, как мне объяснил отец, вновь беспартийной после разоблачения культа личности Сталина. Остальным было все равно, что учить, и колхоз они считали праздником.
Мой филфак не отличался от других: по сравнению с девочками нас было слишком мало. Точнее – трое, потому что четвертого, поэта, сразу отправили в сумасшедший дом. Двое других были неопасны для окружающих, хотя один тоже писал стихи, а другой мечтал стать офицером и стал им. Я был еще хуже: наглый и неуверенный в одном лице. И все же в колхозе мне доверили лошадь. Другие вытаскивали свеклу из жидковатой балтийской почвы того же пасмурного цвета, что и сентябрьское небо. Собирая ящики с выкопанным, я объезжал поле стоя, а не сидя, на телеге, потому что видел, как это делают ковбои в единственном доступном вестерне чехословацкого производства «Лимонадный Джо».
По вечерам, после борща из той же свеклы, мы вели со студентками брачную игру в дурака. Чувствуя себя гостем в чужом гареме, я быстро научился выигрывать. Как Печорин – княжну Мэри, я изводил соперниц пристальным взглядом и вольной речью. Теряясь, они забывали подкидывать и оставались в дурах. Вывернулась лишь последняя, отбив мою карту благоразумно припасенным козырем. В награду за ничью я пригласил ее воровать цветы в ботанический сад.
– «Сажайте розы в проклятую землю», – написал про Саласпилс сидевший в здешнем лагере Эйжен Веверис.
Буквализировав метафору, Академия наук устроила на опушке леса между мемориалом и реактором парник, цветник и клумбу. Днем туда забредал садовник, вечером лоси, а ночью не было даже забора. Воспользовавшись этим обстоятельством и усыпляя совесть тем, что в беззащитном саду розы растят из чисто академического интереса, я отправился на охоту со спутницей и гнусными намерениями.
Дело в том, что той осенью у меня неторопливо разворачивался роман с молчаливой (она стала патологоанатомом) медичкой. По субботам мы ходили в филармонию, по воскресеньям слушали орган, в будни я скакал по полям и думал, как сдвинуться с мертвой музыкальной точки. Краденые розы на метровых стеблях, выросшие на сдобренном радиацией академическом черноземе, играли важную роль в моих тактических планах, которые я, естественно, не раскрыл подельнице. По пути к парникам я чинно говорил о любви к филологии. Но по дороге обратно, разгоряченные кражей и объединенные преступлением, мы сменили пластинку.
– «Ты у меня одна, словно в ночи луна», – пела она Визбора, а я слушал, коварно прикидывая, не завести ли мне второй роман на полях первого.
Меня извиняли экстраординарные обстоятельства. Ночь с просочившимися сквозь слоеные тучи звездами. Пронзительно пустая проселочная дорога, вертлявая, как лесная тропинка. В чаще, чудилось мне, громко дышали лоси. Жизнь только начиналась, но я уже боялся упустить случай, нутром догадываясь, что второго такого больше нигде, никогда и ни за что не будет. Сделав роковой шаг, я взял ее за руку и ощутил в ладони что-то мягкое и пушистое.
– Что это? – нежно спросил я.
– Мышь, – ни на секунду не задумавшись ответила она, и я позорно подскочил от ужаса, потому что всю жизнь панически боялся мышей, крыс и других мелких грызунов, кроме знакомого хомяка Бублика.
На самом деле это был толстый мохнатый листок полевого растения коровяк, который занял свое место в нашем гербе, ибо год спустя мы отправились к ее маме за приданым. В трамвае нам пришлось занять три места. Одно – для баула с двумя пуховыми подушками и девичьим (розовым) одеялом на вате. Вместе с Герценом, Белинским и слесарным набором оно пересекло океан, перекочевало к сыну и тихо окончило свои дни раньше нас.
Прошло сорок лет, но каждый раз, когда мы ссоримся, жена попрекает меня тем вечером в Саласпилсе:
– Вот гад, – ворчит она, – соблазнил и не бросил.
Колония Лапиня,
или
Поиски жанра
Твердо зная, чего хочу, я стыдился себе в этом признаться, пока не встретил Петю Вайля. Это произошло у нас за столом, на завтраке, который, вопреки названию, мог включать обед, ужин и участкового. Отец любил праздники больше жизни. Собственно жизнь его интересовала лишь в ожидании праздника, которое он ценил еще больше, умело растягивая по пути к рынку.
Туда мы ходили каждое воскресенье – до завтрака и ввиду него. Праздничной была уже дорога к базару, ибо натощак все казалось интереснее. За молодцеватым и нелепым в нашем старинном городе стеклобетонным вокзалом открывались ангары для дирижаблей, составлявших военно-воздушные силы независимой Латвии, так и не спасшие ее от соседа. После войны в них торговали снедью. Под ажурной крышей непомерной высоты летали голуби, ласточки, стрижи, воробьи и чайки.
– Ты еще скажи аисты, – ворчит жена, и чаек я вычеркиваю.
На открытом воздухе продавали сезонный товар. Осенью, которая в наших краях начиналась когда хотела, – лисичками (почему-то литрами), зимой – квашеной капустой с ледком, нежно хрустевшим на зубах. Весной лучше всех был румяный, как ангел, помидор ценой в чекушку. Но сколько бы он ни стоил, без него завтрак был неполным, ибо только томат умело оттенял малосольную латвийскую селедку и молодую картошку с того же базара. Всю эту роскошь венчал «Кристалл» из открывавшегося в одиннадцать магазина, который без дураков назывался «водочным».
Чем старше я становился, тем больше уходило водки и тем многолюднее оказывались завтраки. За ними легко смешивались, иногда выпадая в коридор, русские, латыши и евреи двух поколений. Но и в нашем вавилоне явление Пети произвело неизгладимое впечатление. Он выделялся всем и сразу: полный и румяный, Вайль тоже походил на ангела, но падшего. Не скрывая пороков, он пил больше всех, не переставая быть интересным – ни сверстникам, ни взрослым, ни, конечно, мне. Петя знал всё и учился на одни пятерки, вернее – их получал, потому что вообще никогда не учился, зато все читал. Причем собраниями сочинений. Когда мы познакомились, он добивал 30-томник Диккенса. Стихи из него выползали, как ленты из уст фокусника: беспрестанно и пестрые. Женскому полу – слезливое: «девочка пела в церковном хоре», нам – экзотическое: про жирафа на озере Чад, остальным – Сашу Черного.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: