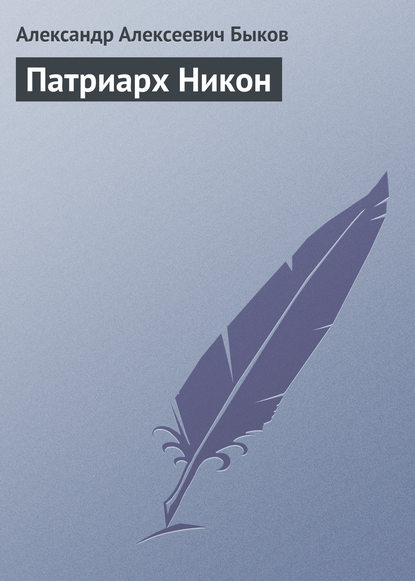По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Патриарх Никон
Жанр
Год написания книги
1891
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Глава IV. Русская церковь до Никона
В бытовой жизни русского народа замечается много таких проявлений, которые показывают, что он не только принял церковные и религиозно-обрядовые учреждения, заимствованные из Византии, но также добровольно увеличил круг и объем их своими собственными религиозными установлениями. Факт этот, указывая на народную самодеятельность в области религии, в то же время открывает еще то, что в древнейшей культуре наших предков хранилось много нравственных задатков и обычаев, которые более или менее совпадали и легко мирились с христианскою обрядностью. Этим, вероятно, возможно отчасти объяснить то историческое явление, что христианская вера вводилась у северных славян без потрясений и почти без противодействия. Кроме икон, принесенных греками в Киев еще до св. Ольги и никогда не возбуждавших в России тех споров иконодулов с иконокпастами, какими прославился Константинополь, большим почитанием пользуется у русского народа крестное знамение. С ним русский человек начинает день, выходит из дома, принимается за всякую работу, начертывает его на строениях и вещах, им благословляет всякую пищу и питье; одним словом, русский человек творит крестное знамение при всех обстоятельствах жизни. Нет сомнения, что знамение креста, принесенное первыми проповедниками христианства, слагалось из трех перстов, как оно практиковалось на Востоке с первых веков апостольских. Когда и при ком стали креститься двумя перстами, представляет пока неразрешенный вопрос, но переход от троеперстия к двуперстию объясняется легко историческою обособленностью русских от греков и указанною выше народною самодеятельностью. Нашествие монголов следует считать тою гранью, на которой должна была вполне совершиться замена. До появления Батыя русские князья вступали в брак с византийскими принцессами: в 988 году св. Владимир женился на Анне, дочери императора Романа II, и при ней утвердил христианство в России; внук его, Всеволод I Ярославич, женился в 1046 году на Анне, дочери императора Константина XI; правнук его Святополк II Изяславич женился в 1079 году на Варваре, дочери императора Алексея I Комнина; наконец, Юрий I Долгорукий женился на Ольге, дочери императора Иоанна II Комнина в конце первой половины XII века. Так как нашими летописцами были только духовные лица, то очевидно, что если бы византийские принцессы замечали в России уклонения от родных обрядов, то об этом было бы занесено в летописи. Кроме того, полоцкая княжна св. Евфросиния (скончалась 23 мая 1173 года) и великий князь Всеволод III Юрьевич (скончался 14 апреля 1212 года) лично были в Византии и в Иерусалиме, но никто не заметил им неправильного перстосложения. Очевидно, оно утвердилось позднее, когда Киев потерял свое политическое значение и его митрополит был только номинальным главою северной Руси.
С большою вероятностью можно допустить, что двуперстие началось с Андрея I Боголюбского, когда финские народности приняли ближайшее участие в политической и общественной жизни плотно надвинувшихся славян. Постепенно входя в употребление вне контроля духовенства греческого происхождения, оно сделалось наконец господствующим и вытеснило незаметно троеперстие; этому помогло прекращение сношений с Византиею и даже с приднепровскою Русью и вообще изолированность северной Руси, как бы оторванной татарами от остального христианского мира. Очевидно, Александр I Невский употреблял уже двуперстие, как и его сын, московский князь Данила, признанный святым. Как знамение креста двумя, а не тремя перстами, так и многое другое в богослужебной обрядности изменилось по многим причинам в России, и изменилось до неузнаваемости, до смешного, а между тем, подданные московского государства только себя и считали единственно истинно православным народом в целом свете. Греки, принесшие в Россию христианство, потеряли над народом свое прежнее значение и обаяние, так что москвичи перестали уже и доверять греческим книгам, объясняя это тем, что греки, живя под властью неверных, воспитывались и печатали свои книги на латинском западе. С изобретением книгопечатания московские книжники считали свои старые рукописные переводы, переполненные ошибками, бессмыслицею и произвольными вставками, более правильными, чем греческие подлинники в том виде, как они были напечатаны. Такой взгляд особенно утвердили в народе так называемые “справщики книг” при патриархах Иоасафе и Иосифе.
im
Рукописная миниатюра XVII в., изображающая богословский диспут справщиков с Лаврентием Зизанием в 1627 году
Сам Никон в первые годы своего архимандритства разделял этот взгляд и говорил, что “как малороссияне, так и греки потеряли веру и крепость добрых нравов; покой и честь их прельстили, они своему чреву работают и нет у них постоянства”. Только позднейшие беседы с иерусалимским патриархом Паисием поколебали его предубеждение и заставили призадуматься над необходимостью серьезной ревизии русской церковной обрядности.
Между тем, еще при знаменитом Максиме Греке (скончался в 1536 году) нашлись образованные люди, которые обратили внимание на разноречия, попадавшиеся в различных богослужебных книгах, и грубые искажения смысла. Естественно, затем возникла мысль, что все эти описки и искажения безобразят книги, а потому необходимо сделать тщательное исправление и тогда уже узаконить однообразный правильный текст. Эта законная потребность усиливалась постепенно с распространением книгопечатания, так как последнее давало возможность удобнее замечать и сравнивать все разноречия. Образованным людям печатные книги внушали больше доверия, чем писанные, так как предполагалось, что приступавшие к печатанию старались изыскать средства для возможно правильной передачи текста. Таким образом, введение книгопечатания в России сильно подвинуло и поставило на вид вопрос о необходимости исправления богослужебных книг; при всяком печатании разноречие списков вызывало необходимость обратиться к справщикам книг, которые должны были из многих различных списков выбирать тот вариант текста, который, по их убеждению, следовало признавать правильным. Важность такой работы сознавалась всем обществом, и конечно, наблюдение и выбор справщиков входили в обязанности Верховного пастыря церкви, так как он должен был отвечать за все. Исправительная деятельность невольно затихла с наступлением смутного времени, но восшествие на патриарший престол Филарета дало новый толчок в этом направлении.
im
Печать патриарха Филарета
Первым шагом его было сожжение устава, напечатанного в 1610 году уставщиком Логгином; такая крутая мера объяснялась тем, что в уставе статьи были напечатаны “не по апостольскому и отеческому преданию, а своим самовольством”. По повелению Филарета были исправлены и напечатаны несколько раз “Требник” и “Служебник”, кроме того: “Минеи”, “Октоих”, “Шестоднев”, “Псалтырь”, “Апостол”, “Часослов”, “Триоди” цветная и постная, “Евангелия” напрестольное и учительное. В предисловии к “Минеи” выражено сознание, что хотя богослужебные книги издавна переведены были с греческого языка на славянский, но многие переводчики и переписчики выбрасывали слова и переделывали выражения по своему уразумению. Чтобы достичь скорее большего единства, патриарх приказывал собирать по всем городам древние харатейные[5 - Харатейный – пергаментный (В. И. Даль)] списки разных переводов и исправлял по ним замеченные погрешности, “дабы сочетать во единогласие все потребы и чины церковного священноначалия”; эти харатейные списки доставлялись прямо к патриарху, и он сам внимательно просматривал их, но, к сожалению, мало приносил пользы. Хотя он был очень умным и любознательным человеком, но не обладал тою ученою подготовкою, которая была необходима для такого дела; правда, в то время в Московском государстве совсем не было подготовленных для этого людей, так как почти никто не владел греческим языком, обязательным при сравнении перевода с греческим подлинником; кроме того, “справщик книг” должен был ознакомиться с литературою, церковною историею и археологиею, а об этих науках русские книжники даже не знали ничего. Очевидно, в исправлениях было мало пользы.
Все это хорошо сознавал сам Филарет, видевший единственное средство разумного исправления в научной проверке текста. С этою целью он учредил в Москве эллино-славянскую школу при Чудовом монастыре и назначил руководителем ее греческого иеромонаха Арсения. Вскоре, однако, Филарет умер, но преемники его Иоасаф (с 6 февраля 1634 года по 28 ноября 1640 года) и Иосиф продолжали печатать исправленные книги и также приказывали собирать по городам харатейные списки, поручая сравнивать, исправлять и издавать их целой комиссии справщиков, помимо образованного Арсения. Что это были за справщики и как выбирал их патриарх Иосиф, видно из слов самого Арсения: “Иные из этих справщиков едва азбуке умеют, а уж наверное не знают, что такое буквы согласные, двоегласные и гласные, а чтоб разуметь восемь частей речи и тому подобное, как-то: род, число, времена, лица, наклонения и залоги, – так этого им и на ум не приходило”. У таких справщиков, набранных по знакомству и дружбе, незнание дела видно было на каждом шагу; все нелепости, введенные суеверными и невежественными священниками, оказались внесенными в исправленные книги. Так, например, в молитвах на рождение младенца упоминается какая-то Соломия; кроме того, в отпусках говорилось о праздниках, как о лицах наравне со святыми, например: “Молитвами пречистая твоея матери, честнаго ея Благовещения или честнаго ея Успения, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец”. Непосильные труды свели Арсения в Соловки и после его изгнания патриарх созвал форменную комиссию справщиков; сюда вошли царский духовник Стефан Вонифатьев, протоиерей Казанского собора Иоанн Неронов, дьякон Благовещенского собора Федор Неронов и иногородние протоиереи: юрьев-повольский Аввакум Петров, муромский Логгин, романовский Лазарь, суздальский Никита Пустосвят и костромской Даниил.
Как на смех, все эти новые справщики, правда, начитаннее своих предшественников, были отъявленными врагами ревизионного духа, охватывавшего тогдашнее московское духовенство все сильнее. Увидев перед собою множество разнородных списков и не понимая даже, как взяться за исправление, справщики стали руководиться обычаем, полагаясь на свою начитанность: что казалось им наиболее общепринятым, то и входило в заново отпечатанные книги. Отпечатав массу вздора, они воображали, что исполняют свои обязанности в совершенстве, и в этом их поддерживал царский терем, где нравились их сладкоглаголивые речи об оскудении веры и о претерпенных за правду гонениях. Дело было в том, что многие из этих справщиков вынуждены были бросить свои места и семьи в провинции из-за изуверства и корыстолюбия и ютились на даровых хлебах около Вонифатьева, Неронова и коломенского епископа Павла.
Тем временем в Москву приехал упомянутый уже раньше иерусалимский патриарх Паисий и открыто заметил, что в русской церкви он находит немало нововведений, которых не было и нет в восточных церквах. По настоянию Никона, смущенного этими разоблачениями, но не доверявшего вполне греку, келарь Арсений Суханов поехал за справками на Восток. Пока Суханов ездил по Греции, Сирии, Палестине, Египту и Грузии, Москву посетил константинопольский патриарх Афанасий и почти слово в слово повторил обвинения Паисия, особенно относительно двуперстия и произвольного искажения богослужебных книг. Патриарх Иосиф сильно встревожился и не знал, что делать, так как два патриарха обвиняли его чуть не в ереси; посольство охридского патриарха высказалось в том же духе, а афонские монахи даже сожгли богослужебные книги московской печати, как не согласные с чином православного богослужения. Такой поступок уважаемой всеми обители заставил Иосифа окончательно пасть духом, так как восточные церкви могли потребовать от Алексея Михайловича низложения патриарха, вводящего ересь, а корыстолюбивому старцу было, конечно, страшно потерять патриаршие доходы.
Быстрая кончина избавила его от душевных страданий, и царю было немало хлопот лично произвести опись имущества покойного, так как списков дорогим материям, серебряной посуде, дорогому оружию и другим вещам не было и патриарх лично заведовал всем, не допуская келейников. “Прости, – писал Алексей Михайлович Никону в Соловки, – владыка святой, и половины не по чем отыскать, потому что все без записки; не осталось бы ничего, все бы разокрали, да и в том меня, владыка святой, прости, немного и я не покусился иным сосудом, да милостью Божией воздержался и вашими молитвами святыми. Ей-ей, владыка святой, ни маленькому ничему не точен”. Оказалось, что “свет-патриарх” не по-христиански обращался со своими подчиненными: “Все вконец бедны, и он, свет, жалованья у них гораздо убавил”, – сообщает царь в том же письме Никону. Легко понять, что патриарх Иосиф не был единичным явлением среди духовенства, которым он управлял десять лет; почти повсеместно замечалось то же самое: многие священники и епископы как-то ухитрялись сочетать набожность, уважение к букве церковного закона, даже подвижничество с алчностью, корыстолюбием, лихоимством и сластолюбием. Аввакум Петров, назначенный Алексеем Михайловичем протоиереем в Юрьев-Повольский, пробыл в городе всего восемь недель и так вооружил против себя народ, что его избили до полусмерти батогами, и воевода едва спас, прибежав с пушкарями к скопищу, его самого и семью. Ночью Аввакум бежал в Кострому; оказалось, что и с тамошним протоиереем народ вынужден был поступить одинаково, и Данила также тайком бежал. Оба нашли приют у Вонифатьева и попали в справщики книг.
Глава V. Начало русского раскола
Переход от патриарха Иосифа к патриарху Никону был очень резок, и это все сознавали, начиная с самого Никона. Он ясно видел положение русской церкви, дошедшей вследствие национального самомнения и исторической обособленности до состояния, которое восточные ревнители православия прямо называли ересью. Он видел, что русское духовенство довело себя до такого состояния, что рядом с традиционным уважением к священнику и монаху того и другого поколачивали без милосердия, обращались с ними презрительно, не видя в них ничего заслуживающего почтения. Лихоимство, тунеядство и распущенность нравов сделались обычным явлением среди духовенства, не говоря уже о почти повальном невежестве и малограмотности, доводящих до искажения церковных обрядов. Из-за всего этого истинной религиозности почти не стало, ее заменило какое-то казенное благочестие, состоящее в возможно точном исполнении внешних обрядовых приемов, которым приписывалась символическая сила, дарующая Божью благодать; буква искаженного подчас обряда давно уже камнем лежала на русской духовной жизни, лишая последнюю внутреннего смысла и содержания. “Чтобы получить то-то и то-то, надобно сделать то-то и то-то”, – вот коммерческая формула, в которую отлилась религиозная идея русского человека XVII века. А рядом с этим пробуждалось сознание, что духовенство как служитель и представитель Бога на земле должно быть безукоризненно, должно пользоваться общим уважением и должно быть ограждено от произвола светских властей и насилия прихожан над своею личностью. Сильный толчок в этом направлении дан был патриархом Филаретом; не только духовенство, но и светские лица сознавали ясно, что со вступлением его в управление церковью, и в управление самодержавное, без опеки бояр и приказных, дела пошли лучше и многие безобразия и беспорядки прекратились. Духовный Великий Государь как вдохновитель и руководитель стал вмешиваться в государственные дела, и в них появилось улучшение; политический организм, расшатанный в смутное время, снова окреп и сплотил народ вокруг самодержавного светского Великого Государя.
Все это сознавал Никон. Он видел, что преемник Филарета унизил достоинство патриарха до такой степени, что Алексей Михайлович вынужден был как бы оправдывать покойного перед его прислугою: “Есть ли из вас кто-нибудь, кто бы раба своего или рабыню без дела не оскорбил? Иной раз за дело, а иной раз, пьян напившись, оскорбит и напрасно побьет; а он, великий святитель и отец наш, если кого и напрасно побил, от него можно потерпеть, да уж что бы ни было, так теперь пора всякую злобу покинуть. Молите и поминайте с радостью его, света, елико сила может”. А между тем, патриарх Иосиф многим был по душе, поддерживая малограмотных, тунеядцев, но приносящих дары. Никон понимал, что его предшественник дискредитировал патриарший сан не только в русском государстве, но и за пределами его; очевидно, что он не мог даже желать идти по его следам. Его идеалом был Филарет, он хотел из уважения к принятому сану быть Великим Государем над церковью, которой он отдал лучшие годы своей жизни и величие которой всегда составляло его задачу. Ревностно и с обычною ему суровою энергиею принимаясь за дело достижения единообразия в церковной обрядности, он логически должен был сделаться борцом за независимость и верховность своей патриаршей власти. Будь Алексей Михайлович менее податливым на выслушивание придворных сплетен и не попадись Никону на дороге кучка тупоголовых изуверов, трудно сказать, какова могла бы быть дальнейшая история России. Самому же Никону не доставало научного образования, чтобы смелее и увереннее вести задуманную реформу, и житейской изворотливости, чтобы ладить и держать в руках темную клику Салтыковых, Стрешневых, Морозовых, Трубецких, Одоевских, Долгоруких и других. Чересчур прямолинейный по характеру Никон не мог и не умел лукавить и вести дипломатическую игру с теми, чье дело, по его мнению, было повиноваться, а не умничать.
25 июля 1652 года сын крестьянина Мины вступил в управление Всероссийским патриархатом. Следуя обычаю, издавна установившемуся среди высших иерархов русской церкви, первым делом его было основать для себя новый монастырь и прославить его новою святынею. Для этой цели Никон выбрал намеченный им раньше островок на озере Валдай и назвал новоучреждаемую обитель Иверским Богородичным монастырем в честь Иверской Божией Матери, икона которой находится в афонском Иверском монастыре с 31 марта 999 года. В то же время он отправил знающего человека на Афон, с согласия иверского архимандрита Пахомия, гостившего в Москве, сделать точную копию Иверской иконы и, когда каменная церковь была построена, поставил в ней эту икону, украсив ее золотом и драгоценными каменьями. Вместе с тем Никон перенес 23 ноября в новый монастырь мощи преподобного Иакова, чудотворца Боровичского (скончался 22 мая 1544 года). Таким образом, новооснованная обитель сделалась предметом двойного поклонения; вскоре пошли слухи о совершающихся в ней чудесах и исцелениях. Алексей Михайлович, сочувствуя доброму делу “собинного друга” и желая поддержать его, приписал к Иверскому монастырю пригород Холм с крестьянами, деревнями и угодьями. Затем Никон перенес сюда из Хутынского Спасо-Варлаамиева монастыря типографию, заведенную им еще в 1650 году, в бытность новгородским митрополитом; здесь были напечатаны, между прочим, “Учебный часослов”, “Рай мысленный” Стефана Святогорца и произведения самого Никона: “Сказание об Иверской иконе”, “Сказание о созидании Онежского Крестного монастыря”, “Поучение к духовным и мирским”, “Канон молебный о соединении веры”, “Книга кормчая”, “Поучение о моровом поветрии”, “Пища духовная” и другие.
Но, исполняя дело, соответствующее его искреннему религиозному чувству и выраженное в общепринятой форме, Никон обратил серьезное внимание на задуманную реформу или, лучше сказать, коренное исправление текста богослужебных книг. Келарь Суханов еще не возвратился из-за границы, и Никон начал сам рыться в рукописях богатого патриаршего книгохранилища, поступившего в его распоряжение. Там он обратил внимание на грамоту восточных патриархов, присланную по случаю учреждения в России патриархата при Федоре I Ивановиче; в этой грамоте было сказано, между прочим: “Православная церковь приняла свое совершение не только по благоразумию и благочестию догматов, но и по священному уставу церковных вещей; праведно есть нам истреблять всякую новизну ради церковных ограждений, ибо мы видим, что новины всегда были виною смятений и разлучений в церкви; надлежит последовать уставам святых отцов и принимать то, чему мы от них научились, без всякого приложения или умаления. Все святые озарились от единого Духа и уставили полезное; что они анафеме предают, то и мы проклинаем; что они подвергли низложению, то и мы низлагаем; что они отлучили, то и мы отлучаем; пусть православная великая Россия во всем будет согласна со вселенскими патриархами”. Необходимость исправления искажений и произвольных вставок была очевидна по этой грамоте авторитетных иерархов, и в первом изданном при нем Служебнике Никон велел поместить в предисловии приведенный отрывок как бы в оправдание своих действий. Тут же, в библиотеке, Никон обратил внимание на саккос[6 - Саккос – архиерейское облачение (В. И. Даль)] митрополита св. Фотия (скончался 2 июля 1431 года), родом грека; символ веры, вышитый на этом саккосе, разнился с тем, который читали в первой половине XVII века: в старом не было прибавления слова “истинного” о св. Духе, а Никон знал, что против этой прибавки уже раздавались голоса раньше его; кроме того, на саккосе было вышито: “Его же царствию не будет конца”, – а вокруг Никона все читали: “Его же царствию несть конца”. Все эти находки только сильнее убеждали патриарха в необходимости исправления искаженного текста; но исправления тщательного, при содействии действительно знающих людей, а не “мужиков-горланов”.
Иеромонах Арсений, сосланный на покаяние в Соловецкий монастырь патриархом Иосифом, заподозрившим благодаря усердию справщиков его в латинстве, был немедленно возвращен Никоном. Проверка текстов снова перешла к Арсению, а Никон благодаря боярину Ртищеву познакомился с иеромонахом Киевского Братского монастыря Епифанием Славинецким, приехавшим в Москву по приглашению боярина “ради обучения словенороссийского народа детей эллинскому наказанию”. Славинецкий был характера кроткого, сосредоточенного, предпочитал уединенную жизнь кабинетного ученого всяким исканиям почестей, не терпел никаких житейских дрязг и был всем сердцем предан науке; он умел уживаться со всеми, никого не раздражал заявлением о своем умственном превосходстве и своею безукоризненною честностью приобрел всеобщее уважение. Познакомившись с ним, Никон полюбил его и изменил свое навеянное окружающими предубеждение против малорусов. В это время возвратился келарь Арсений Суханов из своей поездки и 26 июля 1653 года подал царю и патриарху свой отчет о командировке на Восток; его записка носит название “Проскинитарий”, то есть “Поклонник”. Суханов описал свое путешествие по греческим островам, а также пребывание в Александрии, где долго беседовал с патриархом Иоанникием, в Иерусалиме и Тифлисе; оставаясь приверженцем русской старины, он описал черными красками поведение восточно-православного духовенства и недостаток благоговения при богослужении, но при этом правдиво указал, что на востоке повсеместно употребляется троеперстное крестное знамение и соблюдаются, опять-таки повсеместно, те именно обряды и порядки, в нарушении которых греческие иерархи укоряли русскую церковь.
Таким образом, слова патриарха Паисия, впервые открывшего глаза Никону на беспорядки и заблуждения, приобретали серьезное значение и требовали немедленного исправления недостатков. По этим-то побуждениям решительный и деятельный патриарх обратился к Алексею Михайловичу с предложением созвать русский поместный собор. Царь дал свое согласие и лично присутствовал с боярами на этом соборе, на который прибыли: митрополиты Макарий Новгородский (преемник Никона), Корнилий Казанский, Иона Ростовский, Сильвестр Крутицкий и Михаил Сербский, архиепископы Михаил Вологодский, Софроний Суздальский и Мисаил Рязанский, епископ Павел Коломенский, несколько архимандритов и протоиереев, – всего 34 человека. В качестве председательствующего Никон открыл заседание и, по своему прямодушию, произнес речь, в которой без стеснений высказал свой взгляд на равенство церковной власти со светскою. “Два великих дара, – начал он, – даны человекам от Вышнего по Божьему человеколюбию – священство и царство. Одно служит божественным делам, другое владеет человеческими делами и печется о них. Оба происходят от одного и того же начала и украшают человеческое житие; ничто не делает столько успеха царству, как почтение к святителям (святительская честь); все молитвы к Богу постоянно возносятся о той и другой власти… Если будет согласие между обеими властями, то настанет всякое добро человеческой жизни”. Провозглашая громко перед всем собранием принцип теократизма в государстве, Никон не прятался и не скрывался, как лукавый дипломат, стремящийся окольными путями к цели; если бы смысл его речей задевал и оскорблял самолюбие самодержавного царя, то охлаждение должно было бы немедленно наступить между Алексеем Михайловичем и Никоном. Однако мы видим обратное, так как во время войны с Польшею патриарх был регентом государства по выбору царя. Высказав свой взгляд на предержащие власти, Никон перешел к интересующему его предмету исправления книг; объяснив весь ход событий, свои беседы с Паисием, находки в книгохранилище и докладе Суханова, он продолжал: “Надлежит нам исправить как можно лучше все нововведения в церковных чинах, расходящиеся с древними славянскими книгами. Я прошу решения, как поступать: последовать ли новым московским печатным книгам, в которых от неискусных переводчиков и переписчиков находятся разные несходства и несогласия с древними греческими и славянскими списками, а прямее сказать, ошибки; или же руководствоваться древними греческим и славянским текстами, так как они оба представляют один и тот же чин и устав”. На этот вопрос ответ последовал такой же, какой давался не раз при прежних патриархах: “Достойно и праведно исправлять, сообразно старым харатейным и греческим спискам”. Только епископ Коломенский Павел, протоиерей Иоанн Неронов и Аввакум Петров, да два или три архимандрита, оскорбленных публичным признанием их невежественности, удалились с собора, не подписав его постановлений.
Собор уничтожил колебания патриарха, хорошо понимавшего всю важность предстоявшего дела. Не прошло нескольких дней после закрытия заседаний, как комиссия справщиков книг была формально отставлена от должности по причине своей полной несостоятельности и некомпетентности в корректурных работах. Скромный Славинецкий, проживавший с киевскими сотоварищами в новопостроенном Андреевском Преображенском монастыре на иждивении боярина Ртищева, по царскому указу был назначен справщиком (то есть фактором) типографии и получил квартиру при училище в Чудовом монастыре. Патриарх поручил Славинецкому, главным образом, дело исправления книг, и образованный иеромонах приступил к своей задаче неторопливо, с разумною обдуманностью. По его настоянию келарь Суханов вторично был отправлен на Восток за различными старинными рукописями, хотя уже при первой поездке доставил до 700 драгоценных рукописей, “овым убо от них от того времени, егда писаны, преидоша 700 лет, овым же 500, овым 400 лет”. Только окружив себя громадным количеством греческих и славянских списков, принялся Славинецкий за самое исправление текстов; помощниками его были два приехавших с ним земляка Арсений Сатановский и Данила Птицкий, побывавший в Соловках иеромонах-грек Арсений, священник Никифор, иеродиакон Моисей, бывший игумен Сергий, монах Евфимий и книгописцы печатного дела Михаил Родостамов и Фрол Герасимов. Пока серьезные труженики принимались толково за свое дело, оскорбленные бездарности сошлись между собою и образовали коалицию против патриарха Никона; сильные поддержкою ничего не понимающих женщин и отъявленных старинолюбцев из бояр, Неронов и Петров начали проповедовать по Москве, что патриарх по скудоумию поддается наущениям киевлян, зараженных латинскою ересью, и допустил к делу уличенного латынщика, грека Арсения. В своих письмах к друзьям Неронов скромно обходит молчанием вопрос о неожиданной отставке и об исправлении книг, сознавая, конечно, в душе, что патриарх поступил по справедливости, но зато он усердно нападает на Никона за его жесткость и резкость в обращении, явно рисуясь своими страданиями и своим геройством. “Патриарх, – читаем мы в одном его письме, – мучитель, терзает свою братию членов церкви, творит над ними поругание, одних расстригает, других проклинает. Беззаконное дело будет быть у него в послушании без прекословия. Он хочет, чтоб мы просили у него прощения; пусть он у нас просит! Государь всю свою душу и всю Русь положил на патриархову душу; нехорошо так мудрствовать государю!” За такое явное подстрекательство к неповиновению высшей духовной власти энергичный начальник распорядился бы гораздо круче, чем на первых порах поступил Никон. Этот патриарх, которого Н. И. Костомаров обвиняет чуть не в мании величия, не знал даже, до каких пределов может дойти религиозное изуверство и фанатизм ограниченных людей; он рассчитывал повлиять на членов оппозиции более мягкими мерами, предполагая в них более здравого смысла и благоразумия. Большая часть непокоренных была давно знакома ему, многие из них были земляками его по месту рождения – а это-то отчасти и разжигало страсти; все эти Павлы, Иоанны и Аввакумы с горечью относились к тому, что их, природных поповичей, взялся учить и муштровать мужицкий сын, которого чуть не на их глазах простая баба-мачеха таскала за вихры. Между тем, серьезный и осторожный патриарх, желая придать более беспристрастный характер своим отношениям к оппозиции и саму реформу поставить на нейтральную почву, отправил к константинопольскому патриарху Паисию длинное письмо через какого-то грека Эммануила; невольно смотря на Паисия как на своего учителя, Никон предложил ему в письме 26 вопрошений, которые касались различных сторон богослужебных обрядов и в том числе спорных пунктов. Вместе с тем, Никон высказывал свое неудовольствие на поведение коломенского епископа Павла, приходившегося шурином патриарху по линии умершей уже жены последнего, Настасьи Ивановны, протоиереев Неронова, Петрова и на их сообщников. Опасаясь своего пристрастия, московский патриарх обращался за советом к константинопольскому: как поступить ему с непослушными, чтобы соблюсти справедливость?
Ответ из Константинополя был доставлен только в 1655 году. Патриарх Паисий извещал, что он созывал в Константинополь поместный собор, на котором “вопрошения” Никона были рассмотрены и затем на них были составлены ответы.
“Вижу, – писал Паисий, которому нравилась роль верховного учителя, – в грамотах преблаженства твоего, что ты жалеешь о несогласиях, возникших по поводу некоторых церковных чинов, и думаешь, что это различие чинов растлевает веру нашу. Хвалим твою мысль: кто бережется малого преступления, тот соблюдается от великого. Еретиков и раздорников следует убегать, если они соглашаются в самых важных предметах, но не вполне согласны с православием и придерживаются чего-нибудь своего, чуждого церковной и соборной мысли. Но если случится, что какая-нибудь церковь различествует от другой в некоторых не особенно важных и несущественных вещах, то есть не прикасающихся свойственным составам веры, например, во времени отправления богослужения и тому подобном, то это не должно быть поводом к разлучению, лишь бы только непреложно сохранялась та же вера. Церковь наша не сначала приняла на себя тот образ и последование, какое держит ныне; не сразу, а помалу”. При этом Паисий ссылается сначала на Епифания Кипрского в том, что церковь в разных местах принимала различные степени поста и мясоедения, потом на Василия Великого, из которого видно, что неокесарийская церковь не принимала того, что принималось в других местах. Затем патриарх продолжает: “Не следует и ныне думать, будто наша православная вера развращается оттого, если один говорит свое последование немного различно от другого в несущественных вещах, лишь бы только согласовался в важнейших, свойственных соборной церкви”. Представив подробное объяснение литургии, Паисий говорит: “Именем Иисуса Христа молим твое преблаженство, утоли эти распри твоим разумом; не подобает ссориться рабам господним, а наипаче в вещах неважных и несущественных; увещевай их принять сей чин, который мы пишем вам, которого держится вся восточная церковь. Изначала у нас, по преданию, он сохраняется; ни в единой вещи не было изменения; за это нам хвала, потому что прочие церкви, отделившись от нас, приняли многие нововведения, а мы ничем не растлеваемся”. Переходя к ослушникам патриаршей воли, Паисий сурово порицает их и дает совет подвергнуть их отлучению, если они не примут нелицемерно все так, как “держит и догматствует церковь”, он сравнивает их с арианами, кальвинистами и лютеранами, которые под видом исправления покинули “недвижное и истинное” в церкви… “Все это знамение ереси и раздора, и кто так говорит и верует, как они, тот чужд православной нашей вере. Их молитвы – хулы, потому что они полагают в сомнение моление наших святых и затевают вводить новые чины, которым мы никогда не научились от наших отцов, предавших нам веру”. Относительно крестного знамения патриарх Паисий указывает на сложение трех первых перстов как на древнейший обычай поклонения и различает молебное перстосложение от благословящего. “До нас дошло, – замечает патриарх в конце письма, – что в ваших церковных чинах есть еще кое-какие различия, не согласные с нашею восточною церковью; удивляемся, что ты о них не спрашиваешь. Желаем, чтобы все это исправилось”. И при этом Паисий порицает русских за то, что в их церквах женщины и мужчины сходятся вместе и во время богослужения не стоят раздельно: “Женщине следует безмолвствовать, а тут невозможно сохранять безмолвие, когда сойдется с женщинами много мужчин разного возраста”.
Вникнув в содержание обстоятельного письма Паисия, Никон снова предложил Алексею Михайловичу созвать собор, который на этот раз вышел блестящим и представительнейшим: кроме большого числа русских епископов, в Москве были антиохийский патриарх Макарий, сербский патриарх Гавриил и митрополиты Григорий Никейский и Гедеон Молдовлахийский. Выслушав ответ константинопольского патриарха, собор постановил выполнить его указания и держаться решения предшествовавшего московского собора, то есть продолжать по-прежнему исправление текста богослужебных книг. Патриарх Макарий энергически подтверждал правильность троеперстия. “Мы приняли, – заявил он, – предание изначала веры от св. апостолов и св. отцов и семи соборов творить знамение честного креста тремя первыми перстами десной руки, и кто из христиан православных не творит крестного знамения по преданию восточной церкви, сохраняемого от начала мира до сих пор, тот еретик и подражатель арменов; того ради, мы считаем такового отлученным от Отца и Сына и св. Духа и проклятым”. Никейский митрополит добавил к этому: “На том, кто не крестится тремя перстами, пребудет проклятие трехсот восьмидесяти святых отцов, собравшихся в Никее, и прочих соборов”. Таким образом, этот собор объявил решительную войну двуперстному сложению.
Беспристрастная история отметила тот непреложный факт, что всякая идея на религиозной основе, как бы она ни была нелепа сама по себе, становится живучею, если ее захотят истребить насильственным путем; подтвердить это может вся история христианства, в которой кровавые страницы отмечают борьбу с арианами, несторианами, манихеями, альбигойцами, гуситами, лютеранами и русскими старообрядцами. Никон, несмотря на свой природный ум, силою обстоятельств вращался с самого детства в такой умственно ограниченной среде, что не мог достичь понимания этого важного исторического закона, а потому, поддержанный нравственно постановлениями московских соборов, решительно взялся за очищение русской церкви от всего нанесенного с течением времени невежественным русским духовенством и этим дал возможность своим противникам предстать мучениками, к которым примкнули все те элементы, какие нашлись в обширной России и которые были политически недовольны московскими порядками. Вот почему на первых же порах раскол ярче вспыхнул в пределах бывшей новгородской республики, перекинулся к казацкой вольнице на Дон и Яик, а с беглыми ушел в Сибирь и прочно осел там.
В изданном вскоре после второго собора “Служебнике” с исправленным текстом появилось предисловие, в котором изложены поводы, побудившие патриарха к исправлению богослужебных книг, и деяния первого поместного собора, одобрившего предприятие Никона. Этот “Служебник” предписано было рассылать повсюду и немедленно вводить в употребление; патриарх рассчитывал по простоте душевной, что у священников хватит здравого смысла настолько, что они проникнутся доводами предисловия и в таком духе станут поучать народ; последствия показали его ошибку. Вслед за тем грек Арсений окончил перевод с греческого книги “Скрижаль”, заключающей в себе порядок и объяснение литургии и таинств: сюда было добавлено изложение бывших при Никоне поместных соборов, ответ константинопольского патриарха Паисия и статьи, относящиеся к вопросу о крестном знамении в защиту троеперстного сложения. В апреле 1656 года был созван третий поместный собор, на который Никон представил свою “Скрижаль”; собор утвердил ее и еще раз произнес проклятие над двуперстниками, а вместе с тем, предано проклятию слово какого-то Феодорита, на которого ссылались двуперстники как на авторитет. Рьяные противники реформы с ужасом толковали, что Никон и согласные с ним члены собора признали, таким образом, еретиками всех святых русской церкви, которые, без сомнения, употребляли двуперстное знамение.
По совету, данному константинопольским патриархом Паисием, Никон решился наконец поступить жестче с ослушниками своей воли, но решился опять-таки не сразу, как это видно из автобиографии Аввакума Петрова: “В пост Великий прислал память к Казанской к Неронову Иоанну. В памяти Никон пишет год, число: по преданию святых апостол и святых отец не подобает в церкви метания творити на колену, но в пояс бы вам творити поклоны, еще же и тремя персты бы крестились. Мы же задумались, сошедшись между собою: видим, яко зима хощет быти; сердце озябло и ноги задрожали. Неронов приказал мне церковь, а сам един скрылся в Чудов, седмицу в палатке молился и там ему от образа глас был во время молитвы: время приспе страдания, подобает вам неослабно страдати. Он же мне плачучи сказал, таже коломенскому епископу Павлу, его же Никон напоследок огнем сжег в новгородских пределах, потом Даниилу, костромскому протопопу, таже сказал и всей братии. Мы с Даниилом написахом из книг выписки о сложении перст и о поклонах и подали Государю. Много писано было. Он же, не вем где, скрыл их; мнит ми ся, Никону отдал”. Только после всего этого Павел Коломенский был лишен сана и сослан в один из новгородских монастырей, Неронов же был лишен скуфьи[7 - Скуфья – ало-синяя бархатная шапочка, знак отличия для белого духовенства (В. И. Даль)] и затем сослан в Вологодский Спасо-Каменный монастырь на Кубенском озере, откуда его перевели в Кольский острог. Царский духовник Стефан Вонифатьев, лишенный должности, которую занял протоиерей Лукиан, скоро покорился и сам стал ходатайствовать за Неронова, который, получив прощение Никона, постригся в монахи под именем Григория и вскоре умер, оплаканный как первая жертва никонианцев. Аввакум Петров, самый фанатичный противник преобразования, был схвачен стрельцами, продержан около месяца в Андрониевом монастыре и затем с женою и детьми отправлен в Даурию на поселение, хотя архиепископ Тобольский Симеон долго не отпускал его из Тобольска, очевидно, сочувствуя “страстотерпцу”. Протоиерей Логгин Муромский, Данила Костромской, Данила Темниковский и архимандрит Ферапонт Чудовской были разосланы по разным городам в тюремное заключение и там, взмутив народ, скоро умерли. Но, ясное дело, этими ссылками и заточениями нельзя было прекратить волнение, которое только разрасталось при появлении “мучеников”. Когда патриарх разослал свои новые богослужебные книги и приказал служить по ним и креститься тремя перстами, ропот поднялся разом во многих местах: протоиереи Никита Пустосвят Суздальский и Лазарь Романовский возбудили народ к неповиновению, а Соловецкий монастырь, исключая немногих старцев, восстал в 1666 году, руководимый старцами Никанором, Азарием и Геронтием.
Глава VI. Патриарх и великий государь
“Великий Государь, святейший Никон, архиепископ Московский и Всея Великия, Малыя и Белыя России и многих епархий, земли же и моря сея земли патриарх”, – вот официальный титул, который сам государь употреблял в документах. Подготовленный Алексеем Михайловичем еще в звании архимандрита быть докладчиком по жалобам на приказных и на воевод, Никон привык вмешиваться в светские дела; в Новгороде это вмешательство усилилось вследствие прямо выраженного желания царя видеть в митрополите не только ходатая за обиженных, но и контролера над местною администрациею. Очевидно, достигнув патриаршего престола, “собинный друг” не мог исключительно заниматься духовными делами; Алексей Михайлович сам привык часто обращаться к нему за советами и поступать согласно его указаниям. Своевольным и надменным боярам не нравилось, что “чернец из мужиков” принимает с ними тон начальника, он больше приказывает, чем просит, ни в какие сделки не вступает и прямо дает почувствовать, что он “второй Великий Государь”. Этот второй государь был энергичнее, последовательнее и строже добродушного Алексея Михайловича, податливого на лесть и охотно выслушивающего придворные сплетни. Никон не стеснялся в выборе выражений и в своих действиях, если замечал несогласие, по его мнению, со святостью веры и со справедливостью царя. Доставили многим “либералам” того времени иконы иностранного мастерства – Никон возмутился этим и без рассуждений велел отобрать иконы как не соответствующие общепринятому византийскому складу; затеяли бояре развлекаться музыкою во время поста – патриарх нашел это безнравственным, арестовал почти пять возов различных музыкальных инструментов, свез все это за Москву-реку и там торжественно сжег. Заводчик и пушкарь Питер Марселис позволил себе курить в присутствии патриарха, и за это его высекли кнутом, тем более, что Никон ненавидел “богомерзкое зелье, чертову траву”, то есть табак. Недоверчивый к иноземному, как большинство русских того времени, Никон трудно сходился с заморскими обычаями и большую часть из них преследовал постоянно. Однажды, заметив на слуге боярина-дворецкого Никиты Ивановича Романова необычный наряд, он узнал, что это ливрея; немедленно эта ливрея была вытребована у царева родственника и изрезана на куски.
Такая строгость в преследовании иноземщины и всего противного духу строгого православия усиливалась относительно духовенства. Если бояре не терпели патриарха Никона за постоянное вмешательство в мирские дела и за его резкие выходки, то духовенство было просто озлоблено из-за беспощадной строгости архипастыря и неизбежных притеснений его приказных. Никон требовал от священников трезвой жизни, точного исполнения треб и, сверх того, заставлял их читать в церкви поучения народу – новость, которая крайне не нравилась невежественному духовенству; а между тем, Никон не требовал больше того, что сам делал, будучи десять лет священником. Строгий пурист в делах веры, Никон становился беспощадным с нерадивыми, небрежными и склонными к вину; таких ему ничего не стоило посадить на цепь, помучить в тюрьме или же сослать куда-нибудь на нищенскую жизнь в бедный приход. Страшен был рослый мордвин, облачение которого весило до двенадцати пудов, и трепещущие священники в ужасе спрашивали: “Знаете ли, кто он? зверь лютый, медведь или волк?” Распущенность и тунеядство московского духовенства бросались в глаза, и патриарх, чтобы подтянуть и проучить священников, взял за правило часто переводить их из церкви в церковь, из прихода в приход. Это было разорительно не только в связи с неизбежными расходами при перемещении с места на место, но еще и потому, что такие переводимые священники должны были брать в Москве “перехожие” грамоты, а пока их не достанут, проживать в столице. Между тем, приказная братия, подчиненная патриарху, не дремала и исправно набивала свои карманы взятками, поборами и подарками, усиливая этим в огромных размерах общую нелюбовь к Никону. Если бы патриарх был поопытнее в приказных крючкотворствах, то можно наверное сказать, что большей половины притеснений и прижимок не существовало бы. Но патриарший дьяк Иван Кокошилов – наследие от патриарха Иосифа – бесцеремонно грабил всех, имевших дело в патриаршем приказе, не только сам, но даже через свою жену и прислугу. Никон по неопытности был в руках Кокошилова.
В то время, как бояре и духовенство не знали, как избавиться от досаждавшего им Никона, царь Алексей все больше и больше привязывался к своему “собинному другу”. Он ценил его практический ум, любовь к родной земле и понимание ее интересов; поэтому с переселением из Новгорода в Москву Никон, помимо обширного духовного ведомства, принимал деятельное участие в светских делах. До него важнейший доход казны – продажа напитков – отдавался обыкновенно на откуп, тем более, что откупная система применялась и в сборе налогов и пошлин. Патриарх, близко знакомый с народною жизнью, доказал царю, что откупной порядок чересчур тягостен для народа и, кроме того, вредно отражается на его нравственности. Дело в том, что откупщики, заплатив в казну деньги вперед, старались всеми возможными способами вернуть эти деньги с процентами и, кроме того, разжиться на кабаках, которые становились разорительными притонами пьянства, мазурничества и всякого беззакония. Помимо всего этого, Никон справедливо указывал, что определенный процент, причитающийся откупщику, остался бы в казне, если виноторговля будет прямо от казны. Вследствие таких доводов, уже в 1652 году кабаки были заменены кружечными дворами, которые уже не отдавались на откуп, а содержались выборными людьми “из луччих” посадских и волостных людей, названных “верными головами”; при них состояли выборные целовальники, занимавшиеся и курением вина. Винокурение дозволялось всем, но с обязательством доставлять на кружечный двор определенное количество вина. Мера эта предпринята была как бы для уменьшения пьянства, потому что во все посты и по воскресным дням виноторговля запрещалась, и дозволялось только, как общее правило, продавать не более тройной чарки на человека; “питухам” на кружечном дворе и поблизости его не дозволялось пить. В 1653 году, по челобитью торговцев, введена однообразная “рублевая” пошлина по десяти денег с рубля; каждый купец, покупая товар на продажу, платил пять денег с рубля и с выпиской мог везти свой товар куда угодно, но платил остальные пять денег там, где продавал. “Рублевая” пошлина отменяла собою целый ряд мелких пошлин, что для купцов представляло большое удобство. В 1654 году, следуя той же системе, правительство уничтожило откупную систему на многих казенных сборах, а именно: пошлины с речных перевозов, с телег, саней, с сена, масла, кваса, рыбы и так далее; все эти прелести заводились не только в посадах и волостях, но и самими помещиками на своих землях. Царская грамота, уничтожая это ненавистное народу наследие татарского басурманства, прямо называет эти откупы “злодейскими”, как их называл и патриарх Никон.
Осложнившиеся в это время политические события также отразили на себе влияние “собинного друга”. Малороссия вела безуспешную, хотя блестящую борьбу с Польшею, и гетман Богдан-Зиновий Михайлович Хмельницкий не раз обращался к московскому царю с просьбою принять Приднепровье в подданство России. Бояре-советчики, окружавшие Алексея Михайловича, были настолько лишены исторического чутья и политических дарований, что, не понимая задачи Москвы-собирательницы, упирались всеми силами против присоединения Малороссии. Царь вполне разделял их взгляды, и только веские и убедительные советы Никона заставили его иначе посмотреть на дело и постепенно перейти на сторону казаков. Благодаря этому московский посланник князь Борис Александрович Репнин-Оболенский явился 20 июля 1653 года в Краков и, напомнив польскому правительству старое требование о наказании лиц, делавших ошибки в царском титуле, объявил, что царь согласен простить виновных, если поляки помирятся с Хмельницким на основании Зборовского договора и уничтожат хитрое измышление иезуитов – унию[8 - уния – православные, признавшие папство под видом соединения западной и восточной церквей (В. И. Даль)]. Паны-сенаторы ответили князю, что унию уничтожить невозможно, что такое требование равносильно тому, если бы поляки потребовали уничтожения православия в Московском государстве, что греческая вера никогда не была гонима в Польше, а с Хмельницким они не станут мириться не только по Зборовскому, но даже и по Белоцерковскому договору, и намерены привести казаков к тому положению, в каком они находились до начала восстания. Тогда князь Репнин объявил разрыв дипломатических отношений и сказал, что “царь будет стоять за православную веру, за святые Божий церкви и за свою честь, как ему Бог поможет!” После этого в Москве был созван земский собор, который открыл свои заседания 1 октября и решил, “что следует принять гетмана Богдана Хмельницкого со всем войском запорожским, со всеми городами и землями под высокую государеву руку”. Патриарх и все духовенство благословили государя и всю его державу, высказав при этом: “Мы станем молить Бога, Пресвятую Богородицу и всех святых о пособии и одолении”.
Комиссарами в Переяславль были отправлены боярин Бутурлин, окольничий Алферьев и думный дьяк Лопухин. 31 декабря они прибыли в дом полковника Павла Тетери, а 8 января 1654 года генеральная рада присягнула на подданство Алексею Михайловичу. 23 апреля состоялось торжественное отправление боярина князя Алексея Никитича Трубецкого с войском в Польшу; в Успенском соборе патриарх читал всему собранному войску молитву идущим на войну, причем поминал воевод по именам; затем царь пригласил бояр и воевод на парадный обед, за которым говорил два раза речь, угощал богородицыным хлебом, медом красным и белым и объявил при этом, что сам намерен проливать кровь на войне. “Если ты, государь, – отвечали ратные люди, – хочешь кровью обагриться, так нам и говорить после того нечего! Готовы положить головы наши за православную веру, за государей наших и за все православное христианство!” Через три дня после того совершилась новая церемония: все войско проходило мимо дворца, причем патриарх кропил его святою водою, а бояре и воеводы, сойдя с лошадей, подходили к переходам, где Алексей Михайлович спрашивал их о здоровье, и они кланялись ему в землю. При этом Никон произнес речь, призывая на войско благословение Божие и всех святых; князь Трубецкой с воеводами поклонился патриарху в землю и также отвечал речью, наполненною цветистыми выражениями, и обещал от лица всего войска “слушаться учительных словес государя патриарха”. Посетив различные святыни и подкрепив себя молитвою, Алексей Михайлович отправил вперед себя икону Иверской Божией Матери и 18 мая выступил в поход, сопровождаемый дворовыми воеводами. Заметим при этом, что в эту войну впервые сражалась часть войска под названием “солдат”, заведенных в 1649 году в заонежских погостах как ядро и зародыш будущего регулярного войска в России.
Отправляясь в поход, Алексей Михайлович доверил патриарху Никону как своему ближайшему другу всю царскую семью, свою столицу и поручил ему наблюдение за правосудием и ходом дел в приказах; другими словами, Никон был назначен регентом государства. Соединяя в своих руках духовную и светскую власть, деятельный и не знающий устали Никон, естественно, навел страх на всех своих недоброжелателей и заставил их смириться. Ничего не могло сделаться в боярской думе без ведома и благословения великого государя патриарха; в качестве верховного правителя государства Никон писал грамоты по разнообразным предметам, в которых писалось: “Указал Государь, царь, великий князь всея Руси, Алексей Михайлович, и мы, Великий Государь…”. Осенью 1654 года появилась в Московском государстве заразная чума, принесенная, вероятно, через Астрахань из Персии, и патриарху было немало хлопот с этим, как народ называл, “Божьим наказанием”. Царица Марья Ильинична с детьми бежала из Москвы сначала в Троице-Сергиеву лавру, потом в Калязин, в Макариев-Троицкий монастырь, наконец, в городок Вязьму, так как в столице свирепствовала страшная смертность. Размеры этой смертности можно видеть из того, что в Чудовом монастыре из 208 монахов в живых осталось 26; в Воскресенском монастыре из 118 монахинь спаслось 38; в домах бывшего временщика Бориса Ивановича Морозова жило 362 человека, осталось в живых 19; в домах князя Алексея Никитича Трубецкого из 278 человек уцелело только 8; в Кузнецкой черной сотне из 205 человек спаслось только 32, а в Новгородской сотне из 510 человек осталось 72. Патриарх Никон сделал распоряжение поставить в разных местах заставы, чтобы на время заразы пресечь сообщение с войском, при котором находился царь, затем приказал заложить в Москве царские кладовые кирпичом и не выпускать никого с тех дворов, где появится зараза. Когда последняя усилилась, патриарх сам выехал в Калязин, поручив Москву боярину князю Михаилу Петровичу Рыбину-Пронскому.
Правительство приказывало устраивать на дорогах заставы с тем, чтобы не пропускать едущих из зараженных местностей, но это мало помогало, так как всякого пропускали на совесть, хотя за обман положена была в этом случае смертная казнь, равно как и за сообщение с зачумленными. После смерти зачумленных сжигали их платья и постели, зараженные дворы и прочие постройки промораживались недели две, после чего приказывали топить можжевельником и полынью, думая, что этим разгоняется зараза. Однако бедствия этим не кончились, и зараза появлялась в 1655 и 1656 годах, захватывая обширные районы. В Калуге из 2.613 жителей уцелело всего 777 человек, в Переяславле-Рязанском – из 3.017 человек – только 434, в Переяславле-Залесском из 4.566 человек осталось 939, в Туле из 2.568 человек – только 760, в Кашинском уезде из 2.747 посадских остались в живых 908 человек, в Торжке, Звенигороде, Угличе, Суздале и Твери число умерших было менее числа оставшихся, в Костроме, Нижнем Новгороде и окрестных городах зараза была еще легче, хотя косила народ исправно. Люди от страха разбегались куда попало, а другие, пользуясь общим переполохом, пустились на воровство и грабежи. В самой Москве двуперстники начали возмущать народ и толковать ему, что бедствие постигает православных за еретического патриарха, бежавшего из города в минуту опасности; взволновавшаяся толпа собралась на сходку к Успенскому собору, куда явился посадский Софрон Лапотников и принес икону Спасителя, на которой уже стерлось изображение. Лапотников стал уверять, что образ был выскоблен по приказанию патриарха и ему, Софрону, было от этого образа видение: велено показать его мирским людям, чтобы все восстали за поругание икон. Вскоре какая-то женщина из Калуги стала кричать всенародно, будто ей тоже было видение, запрещавшее печатать исправленные по указаниям киевских еретиков книги. Так как строгий патриарх не давал спуску тунеядцам-священникам, то многие из них находились в Москве под запрещением, а теперь, пользуясь случаем, являлись повсеместными возмутителями толпы. Оставленный в столице князь Рыбин-Пронский с большим трудом успокаивал народ, но вопрос о состоявших под запрещением священниках был настолько важен, что старосты и сотские московских сотен и слобод, не приставите к мятежникам, били челом патриарху ради всеобщего упокоения, чтобы он разрешил служить опальным священникам, так как множество церквей остается без богослужения, некому напутствовать умирающих и погребать мертвых. В ноябре 1655 года Алексей Михайлович возвратился торжественно из похода в Москву и был встречен тремя патриархами: Всероссийским, Александрийским и Антиохийским; достигнув лобного места, при колокольном звоне и пушечных выстрелах царь приказал спросить весь мир о здоровье; вся несметная толпа народа гаркнула “многие лета” государю и поверглась на землю. Освобожденный от забот регентства, Никон получил от благодарного царя официальный титул Великого Государя и материальную поддержку для осуществления своего давнишнего желания: создать монастырь на том безлюдном островке Кие, на который был выброшен более двенадцати лет тому назад монах Никон, бежавший с Соловков. Действительно, в 1656 году на месте деревянного креста, когда-то водруженного двумя беглецами, лично патриархом было положено основание Крестному монастырю “Ставрос”. В том же году была окончена в Москве постройка каменного патриаршего дома (ныне синодальная контора), а при ней церковь Двенадцати апостолов, выстроенная по образцу Константинопольской того же названия, и Крестовая палата, где происходили церковные соборы, а теперь совершается мироварение[9 - Изготовление церковного мира (В. И. Даль)]; последний собор был в 1720 году.
Занимаясь хозяйственными делами, Никон не оставлял без внимания и государственные дела. Приехавший в Москву имперский посол Алегретти, родом из Рагузы и свободно говоривший по-русски, сумел повлиять на патриарха, не любившего протестантов, и на тогдашних дипломатов: окольничего Хитрова и думного дьяка Алмаза Иванова; они втроем приложили все усилия, чтобы окончить военные действия против Польши и начать их против Швеции, король которой, Карл-Густав, покорил почти все коронные польские земли. Уже 17 мая 1656 года царь, убежденный “собинным другом”, приказал объявить разрыв шведскому посланнику Густаву Бельке, а в Вильно послал договариваться о мире князя Никиту Ивановича Одоевского. Тем временем Никон вынужден был написать всенародную грамоту, в которой убеждал не верить размножившимся до невозможного различного рода прорицателям и сновидцам, доказывая текстами из Священного Писания, что убегать от моровой язвы и вообще от бедствия вовсе не составляет греха. Но голос далеко и высоко стоящего патриарха заглушался священниками-двуперстниками, хранителями и ревнителями древнего благочестия, и народ больше верил врагам Никона, жившим среди народа, чем ему.
Богослужебная реформа, серьезно задуманная Никоном, исполнялась добросовестно ученым Епифанием Славинецким, на знания и честность которого приходилось полагаться безусловно, так как контролировать его было некому. Между тем, исправленные Славинецким богослужебные книги употребляются до сих пор без изменений не только в России, но и в славянских православных землях. Были изданы: “Служебник” с предисловием Славинецкого, “Часослов”, обе “Триоди”, постная и цветная, “Следованная псалтырь”, “Общая минея”, “Ирмолог” и “Новая Скрижаль” с объяснением литургии. Вместе с исправленными богослужебными книгами необходимо было издать также церковные законоположения в исправленном виде; с этою целью Славинецкий перевел “Правила св. апостолов”, “Правила вселенских и поместных соборов”, “Номоканон” Фотия с толкованиями византийских юристов Вальсамона и Властаря, наконец, “Собрание церковных правил и византийских гражданских законов” Константина Арменопуло. Покончив с юридическим отделом, неутомимый труженик обратился к писаниям св. отцов и перевел много сочинений, из которых некоторые были уже давно известны и любимы в славянских переводах, и тем нужнее было издать их в более правильном виде; сюда относятся четыре “Слова Афанасия Александрийского”, пятьдесят “Слов Григория Богослова”, “Беседа Иоанна Златоустого на пятидесятницу”, “Беседа Иоанна Дамаскина о православной вере” и “Слово о поклонении иконам”. Кроме того, ввиду безобразного искажения жития святых, Славинецкий перевел и напечатал жития Алексея Божьего человека, Федора Стратилата, великомученицы Екатерины и других. Не ограничиваясь в своих переводах одними религиозными сочинениями, Славинецкий оставил немало переводов светских сочинений по истории, географии, педагогике и даже анатомии.
При этом необходимо заметить, что литературное достоинство переводов ученого иеромонаха не могло особенно привлекать даже читателей; в переводе богослужебных книг встречаются тяжелые и неудобопонятные обороты, а уж тем более – в его самостоятельных произведениях. Вот образчик его слога в одном из поучений: “Изсеките душевредное стволие неправды богоизощренным сечивом покаяния, искорените из сердец пагубный волчец лукавства, сожгите умовредное терние ненависти божественным пламенем любви, одождите мысленную землю душ небесным дождем евангельского учения, наводните ее слезными водами, возрастите на ней благо-потребное былие кротости, воздержания, целомудрия, милосердия, братолюбия, украсьте благовонными цветами всяких добродетелей и воздайте благой плод правды”. В переводах его слог еще более неясный: “Всяка икона изъявительна есть и показательна, яко что глаголю, понеже человек ниже видного, нагое имать знание телом покровенней души, ниже по нем будущих, ниже местом расстоящих и отсутствующих, яко местом и летом описанный к наставлению знания и явление и народствование сокровенных, примыслися икона всяко же к пользе и благодеянию и спасению, яко да столиствуем и являемым вещем раззнаем сокровенная”. Как переводчик Славинецкий злоупотреблял буквалистским методом и хотел переводить как можно ближе к подлиннику, но, вместо того, чтобы передавать смысл подлинника оборотами, свойственными русско-славянскому языку, он создавал произвольно славянские слова на греческий лад и вводил в славянскую речь греческую конструкцию. Заметим здесь, кстати, что Епифаний Славинецкий умер в Москве 19 ноября 1675 года.
Глава VII. Разрыв и отречение
Царь Алексей Михайлович пробыл на войне с 18 мая 1654 по ноябрь 1655 года, и эти полтора года лагерной жизни, проведенные вне Москвы, покинутой первый раз в жизни, в совершенно новой обстановке, оставили глубокий след в характере царя. Он сбросил с себя прежнюю сдержанность и из богатого помещика, каким он, в сущности, был первые годы правления, постепенно превратился в царя; не теряя своего обычного добродушия, Алексей Михайлович сделался недоверчивее, реже стал появляться народу и после московских мятежей принял целый ряд предосторожностей: так, царское жилище постоянно охранялось вооруженными воинами, никто не смел подойти к дворцовой решетке, никому не дозволялось подавать прошение царю лично, при выезде царя окружали стрельцы. В заключение всех мер был создан приказ тайных дел, положивший начало тайной полиции. Между тем, лагерная жизнь, где господствовала большая дисциплина, чем в боярской думе, приучила царя быть самостоятельнее, он проникся убеждением, что он – верховный властелин земли русской, тем более, что успехи оружия покрывали его славою, а регент, оставленный в Москве, по всем важным вопросам посылал гонцов в лагерь к царю. Идея самодержавия развивалась при самых благоприятных условиях, а особенно после провозглашения царя в Вильно великим князем Литвы. По возвращении в Москву Алексей Михайлович был искренне убежден, что в нем одном Россия имеет залог своего благоденствия и дальнейшего развития, что он один, самодержавный царь, может справиться с тяжелой задачей управления страною; это было тем более справедливо, что его окружали бездарности и посредственности, умевшие только спорить о местах и алчно кидаться на царские подачки. Естественно, что первое же столкновение с “собинным другом” оставило в царе неприятное впечатление, и если он не распорядился круто, во вкусе Ивана IV, то виною была его нерешительность, от которой он не смог избавиться за всю свою жизнь и чем умело пользовались окружающие. Столкновения же были по следующим поводам: какой-то дворянин совершил убийство, за что был осужден на казнь, и прибегнул к защите царского духовника Лукиана; тот стал просить у Алексея Михайловича помилования для преступника, но получил резкий отказ и за это не допустил его к причастию; царь пожаловался Никону, но патриарх оправдал поступок духовника. Вскоре затем Алексей Михайлович задумал развестись с Марьею Ильиничною; хотя царица никогда не благоволила особенно патриарху, но последний энергично стал противиться разводу, и царь вынужден был, во избежание соблазна, уступить. За то Богоявленский монастырь в Полоцке, зависевший непосредственно от патриарха, был отдан царем в управление епископа Полоцкого Клалиста, несмотря на все протесты оскорбленного самоуправством Никона.
С другой стороны, необходимо припомнить постоянное соперничество теократизма с монархизмом, проходящее через всю историю рода человеческого; эти два начала, духовное и светское, вели вековечную борьбу из-за преобладания в стране, и верх брала, конечно, та сторона, во главе которой была более энергичная и более талантливая личность. Пробегая мысленно ряд столетий, мы видим, что в Индии теократизм был так силен, что его не могли побороть ни восстания могущественных кшатриев, ни вторжения мусульман под начальством Баберидов, ни власть английских штыков, так что брамины сохранили и поныне то же могущество, которым обладали несколько тысячелетий тому назад. В Египте монархизм был сильнее, но и там верховным жрецам Ни-Аммуна (стовратных Фив) и Са (Саиса) удавалось брать на себя управление страною, низвергая царствующие династии. В Мидии, Вавилоне и Персии теократизм был еще слабее, но и там бывали не раз попытки подчинить себе царей. Неизменная идея теократизма повторялась и в христианстве в лице римских пап, добивавшихся полного подчинения своей власти всего христианского мира и не отказавшихся от исполнения этой мысли до настоящего времени. Из этого мы видим, что духовенство всех времен и народов всегда стояло в оппозиции светской власти и борьба между ними, в самых разнообразных формах, тянется от создания первого государства на земле до сегодняшнего дня. Суровый и прямодушный Никон, возвысясь до звания патриарха Всероссийского, вполне закономерно был предан душою и телом идее теократизма и стремился поставить власть патриарха выше власти царя. За такое в светском смысле революционное направление обвинять Никона невозможно, так как логического вывода идеи теократизма держится, строго говоря, все духовенство христианское и нехристианское, если во главе его стоят патриархи, папы, первосвященники, мастера-строители, верховные маги, старцы гор, брахматы, шейх-уль-исламы и другие.
В подтверждение того, что разрыв дружеских отношений Алексея Михайловича с Никоном произошел именно вследствие того, что они являлись представителями двух соперничающих начал – теократического и монархического, – приводим отрывок из письма Никона Дионисию, патриарху Константинопольскому: “У Его Царского Величества составлена книга (“Уложение”), противная Евангелию и правилам св. апостолов и св. отцов; по ней судят, ее почитают выше Евангелия Христова. В той книге указано судить духовных архиереев и их стряпчих, детей боярских, крестьян, архимандритов, и игуменов, и монахов, монастырских слуг, и крестьян, и попов, и церковных причетников в монастырских приказах мирским людям, где духовного чина нет больше. Много и других пребеззаконий в этой книге! Мы об этой проклятой книге много раз говорили Его Царскому Величеству, но за это я терпел уничижение и много раз меня хотели убить. Царь был прежде благоговей и милостив, во всем искал Божьих заповедей и тогда милостью Божиею и нашим благословением победил Литву. С тех пор он начал гордиться и возвышаться, а мы ему говорили: перестань! Он же в архиерейские дела начал вступаться, судами нашими овладел: сам ли собою он так захотел поступать, или же злые люди его изменили? Он уподобился Ровоаму, царю израильскому, который отложил совет старых мужей и слушал совета тех, которые с ним воспитывались”.
Кроме чисто принципиальной вражды, сюда присоединились интриги и сплетни тех людей, которые окружали царя и, что, очень естественно в данном случае, льнули и тяготели к монархизму, так как он давал им больше индивидуальной свободы, чем теократизм, представителем которого являлся беспощадный и прямолинейный монах-мордвин. Обладая гибким и льстивым языком, боярство и родовая знать не могли простить патриарху его происхождения, они ненавидели его за то, что он оттер их от царя до такой степени, что этот самый царь заставил их в ноги кланяться мужику-монаху и умолять его принять патриарший сан; эта-то ненависть и сделала их еще более речистыми. Оскорбленное самолюбие мелких в нравственном смысле людей не нашло другого оружия, как сплетни, и поэтому языки мужские и женские деятельно заработали в Москве. На патриарха сплетни сыпались градом: он-де хочет уничтожить православие, он хочет провозгласить себя папою, он ни во что не ставит царскую волю, он корыстолюбив, он убийца, он состоял в любовной связи с царевною Татьяною Михайловною, – и еще масса всякого вздора, разжигавшего страсти и усиливавшего вражду. Взгляд Никона на окружающих царя был приведен выше: “Их дело повиноваться властям, а не умствовать”, – поэтому понятно, как негодовал он, видя, что царь охотно выслушивает умствующих и видимо уклоняется от тех сердечных отношений, которые были между ними раньше. Бояре и придворные долго сдерживались и таили в себе вражду против патриарха, сознавая, что с царем, добродушным в обращении и нерешительным в поступках, ничего все-таки не поделаешь, но раз они почувствовали перемену в обращении “тишайшего” с патриархом, то, вполне естественно, принялись усердно поддерживать и раздувать враждебное настроение, не сознавая, быть может, причины, вызвавшей охлаждение между Алексеем Михайловичем и Никоном.
Еще летом 1657 года отношения между царем и патриархом были внешне настолько хороши, что только изощрившиеся придворные умели подмечать набегавшие тучки. В это время Никон занимался созданием нового монастыря, под который он приобрел землю верстах в сорока от Москвы, по берегу реки Истры, у дворянина Романа Боборыкина. Условия, на которых состоялся переход земли от одного владельца к другому, не вполне известны и больше основывались на совести, но Боборыкин принадлежал к числу таких людей, которые низко кланяются и раболепно уступают людям сильным, а затем, при первой возможности, начинают сутяжничать, оббивая пороги по всем судебным инстанциям. Приобретая землю и не заботясь о личности Боборыкина, который остался соседом, Никон сравнял холмистую местность, с трех сторон окопал рвом, вдоль которого выстроил деревянную ограду с восемью башнями, а посередине – деревянную церковь. Когда последняя была готова, патриарх пригласил Алексея Михайловича со всем семейством на освящение. Царю понравилась живописная местность, и он сравнил ее с Иерусалимом; такое сравнение приятно поразило Никона, и он задумал создать подобие настоящего Иерусалима; с этою целью келарь Суханов был снова послан на Восток, чтобы разыскать и привезти точный снимок с иерусалимского храма Воскресения. Пока келарь ездил в Палестину, патриарх дал различные названия окрестностям возникающей обители, напоминающим святые места: появились Назарет и Рама, село Скудельничье, горы Елеонская, Фавор и Гермон, а Истру переименовали в Иордан. Алексей Михайлович как набожный человек сделал пожертвование Новому Иерусалиму, царица Марья Ильинична тоже, и постройка подвигалась вперед, но так же постепенно усиливалось охлаждение между царем и патриархом, так как ни один из них не хотел уступать другому в основном вопросе. Агитация против патриарха среди придворных и одновременно противников троеперстия усиливалась, и в июле 1658 года состоялся явный разрыв, поводом к которому послужила вздорная случайность.
В Москву приехал грузинский царь Теймураз Давидович, и поэтому во дворце был большой обед, на который патриарха не пригласили. Кроме этого знака неуважения к особе “второго государя”, патриарший стряпчий князь Дмитрий Мещерский был побит окольничьим Богданом Матвеевичем Хитрово в толпе. Князь пожаловался патриарху на обиду, и Никон написал царю письмо, в котором просил суда за оскорбление своего стряпчего; царь отвечал собственноручно: “Сыщу и по времени сам с тобою видеться буду”. Однако прошло несколько дней, а Алексей Михайлович не подумал повидаться с Никоном и не произвел следствия об оскорблении князя Мещерского; очевидно, явно враждебные действия против “собинного друга” боярство и придворные позволили себе с ведома и одобрения царя, который, наконец, решился покончить с упорным сторонником теократизма. 8 июля, в день Казанской Божией Матери, царь не явился ни к вечерне, ни к обедне, не желая встречаться с патриархом, хотя тот приглашал его. 10 июля, в праздник Ризы Господней, повторилось то же самое, но в ответ на приглашение в Успенский собор царь прислал стольника, князя Юрия Ромодановского, для объяснений. Эти объяснения, повторяемые и позднее, юридически нелепы и бессмысленны, но получают серьезное значение с точки зрения, приведенной выше.
– Царское Величество на тебя гневен, оттого он не пришел к заутрени и повелел не ждать его к святой литургии, – объявил князь Ромодановский.
– За что же царь на меня гневается? – спросил спокойно патриарх.
– Ты пренебрег Его Царским Величеством, – последовал ответ, – и пишешься Великим Государем, а у нас один Великий Государь – царь!
– Я называюсь Великим Государем не собою, – возразил Никон, – так восхотел и повелел мне Его Величество. На это у меня и грамоты есть, писанные рукою Его Царского Величества.
В бытовой жизни русского народа замечается много таких проявлений, которые показывают, что он не только принял церковные и религиозно-обрядовые учреждения, заимствованные из Византии, но также добровольно увеличил круг и объем их своими собственными религиозными установлениями. Факт этот, указывая на народную самодеятельность в области религии, в то же время открывает еще то, что в древнейшей культуре наших предков хранилось много нравственных задатков и обычаев, которые более или менее совпадали и легко мирились с христианскою обрядностью. Этим, вероятно, возможно отчасти объяснить то историческое явление, что христианская вера вводилась у северных славян без потрясений и почти без противодействия. Кроме икон, принесенных греками в Киев еще до св. Ольги и никогда не возбуждавших в России тех споров иконодулов с иконокпастами, какими прославился Константинополь, большим почитанием пользуется у русского народа крестное знамение. С ним русский человек начинает день, выходит из дома, принимается за всякую работу, начертывает его на строениях и вещах, им благословляет всякую пищу и питье; одним словом, русский человек творит крестное знамение при всех обстоятельствах жизни. Нет сомнения, что знамение креста, принесенное первыми проповедниками христианства, слагалось из трех перстов, как оно практиковалось на Востоке с первых веков апостольских. Когда и при ком стали креститься двумя перстами, представляет пока неразрешенный вопрос, но переход от троеперстия к двуперстию объясняется легко историческою обособленностью русских от греков и указанною выше народною самодеятельностью. Нашествие монголов следует считать тою гранью, на которой должна была вполне совершиться замена. До появления Батыя русские князья вступали в брак с византийскими принцессами: в 988 году св. Владимир женился на Анне, дочери императора Романа II, и при ней утвердил христианство в России; внук его, Всеволод I Ярославич, женился в 1046 году на Анне, дочери императора Константина XI; правнук его Святополк II Изяславич женился в 1079 году на Варваре, дочери императора Алексея I Комнина; наконец, Юрий I Долгорукий женился на Ольге, дочери императора Иоанна II Комнина в конце первой половины XII века. Так как нашими летописцами были только духовные лица, то очевидно, что если бы византийские принцессы замечали в России уклонения от родных обрядов, то об этом было бы занесено в летописи. Кроме того, полоцкая княжна св. Евфросиния (скончалась 23 мая 1173 года) и великий князь Всеволод III Юрьевич (скончался 14 апреля 1212 года) лично были в Византии и в Иерусалиме, но никто не заметил им неправильного перстосложения. Очевидно, оно утвердилось позднее, когда Киев потерял свое политическое значение и его митрополит был только номинальным главою северной Руси.
С большою вероятностью можно допустить, что двуперстие началось с Андрея I Боголюбского, когда финские народности приняли ближайшее участие в политической и общественной жизни плотно надвинувшихся славян. Постепенно входя в употребление вне контроля духовенства греческого происхождения, оно сделалось наконец господствующим и вытеснило незаметно троеперстие; этому помогло прекращение сношений с Византиею и даже с приднепровскою Русью и вообще изолированность северной Руси, как бы оторванной татарами от остального христианского мира. Очевидно, Александр I Невский употреблял уже двуперстие, как и его сын, московский князь Данила, признанный святым. Как знамение креста двумя, а не тремя перстами, так и многое другое в богослужебной обрядности изменилось по многим причинам в России, и изменилось до неузнаваемости, до смешного, а между тем, подданные московского государства только себя и считали единственно истинно православным народом в целом свете. Греки, принесшие в Россию христианство, потеряли над народом свое прежнее значение и обаяние, так что москвичи перестали уже и доверять греческим книгам, объясняя это тем, что греки, живя под властью неверных, воспитывались и печатали свои книги на латинском западе. С изобретением книгопечатания московские книжники считали свои старые рукописные переводы, переполненные ошибками, бессмыслицею и произвольными вставками, более правильными, чем греческие подлинники в том виде, как они были напечатаны. Такой взгляд особенно утвердили в народе так называемые “справщики книг” при патриархах Иоасафе и Иосифе.
im
Рукописная миниатюра XVII в., изображающая богословский диспут справщиков с Лаврентием Зизанием в 1627 году
Сам Никон в первые годы своего архимандритства разделял этот взгляд и говорил, что “как малороссияне, так и греки потеряли веру и крепость добрых нравов; покой и честь их прельстили, они своему чреву работают и нет у них постоянства”. Только позднейшие беседы с иерусалимским патриархом Паисием поколебали его предубеждение и заставили призадуматься над необходимостью серьезной ревизии русской церковной обрядности.
Между тем, еще при знаменитом Максиме Греке (скончался в 1536 году) нашлись образованные люди, которые обратили внимание на разноречия, попадавшиеся в различных богослужебных книгах, и грубые искажения смысла. Естественно, затем возникла мысль, что все эти описки и искажения безобразят книги, а потому необходимо сделать тщательное исправление и тогда уже узаконить однообразный правильный текст. Эта законная потребность усиливалась постепенно с распространением книгопечатания, так как последнее давало возможность удобнее замечать и сравнивать все разноречия. Образованным людям печатные книги внушали больше доверия, чем писанные, так как предполагалось, что приступавшие к печатанию старались изыскать средства для возможно правильной передачи текста. Таким образом, введение книгопечатания в России сильно подвинуло и поставило на вид вопрос о необходимости исправления богослужебных книг; при всяком печатании разноречие списков вызывало необходимость обратиться к справщикам книг, которые должны были из многих различных списков выбирать тот вариант текста, который, по их убеждению, следовало признавать правильным. Важность такой работы сознавалась всем обществом, и конечно, наблюдение и выбор справщиков входили в обязанности Верховного пастыря церкви, так как он должен был отвечать за все. Исправительная деятельность невольно затихла с наступлением смутного времени, но восшествие на патриарший престол Филарета дало новый толчок в этом направлении.
im
Печать патриарха Филарета
Первым шагом его было сожжение устава, напечатанного в 1610 году уставщиком Логгином; такая крутая мера объяснялась тем, что в уставе статьи были напечатаны “не по апостольскому и отеческому преданию, а своим самовольством”. По повелению Филарета были исправлены и напечатаны несколько раз “Требник” и “Служебник”, кроме того: “Минеи”, “Октоих”, “Шестоднев”, “Псалтырь”, “Апостол”, “Часослов”, “Триоди” цветная и постная, “Евангелия” напрестольное и учительное. В предисловии к “Минеи” выражено сознание, что хотя богослужебные книги издавна переведены были с греческого языка на славянский, но многие переводчики и переписчики выбрасывали слова и переделывали выражения по своему уразумению. Чтобы достичь скорее большего единства, патриарх приказывал собирать по всем городам древние харатейные[5 - Харатейный – пергаментный (В. И. Даль)] списки разных переводов и исправлял по ним замеченные погрешности, “дабы сочетать во единогласие все потребы и чины церковного священноначалия”; эти харатейные списки доставлялись прямо к патриарху, и он сам внимательно просматривал их, но, к сожалению, мало приносил пользы. Хотя он был очень умным и любознательным человеком, но не обладал тою ученою подготовкою, которая была необходима для такого дела; правда, в то время в Московском государстве совсем не было подготовленных для этого людей, так как почти никто не владел греческим языком, обязательным при сравнении перевода с греческим подлинником; кроме того, “справщик книг” должен был ознакомиться с литературою, церковною историею и археологиею, а об этих науках русские книжники даже не знали ничего. Очевидно, в исправлениях было мало пользы.
Все это хорошо сознавал сам Филарет, видевший единственное средство разумного исправления в научной проверке текста. С этою целью он учредил в Москве эллино-славянскую школу при Чудовом монастыре и назначил руководителем ее греческого иеромонаха Арсения. Вскоре, однако, Филарет умер, но преемники его Иоасаф (с 6 февраля 1634 года по 28 ноября 1640 года) и Иосиф продолжали печатать исправленные книги и также приказывали собирать по городам харатейные списки, поручая сравнивать, исправлять и издавать их целой комиссии справщиков, помимо образованного Арсения. Что это были за справщики и как выбирал их патриарх Иосиф, видно из слов самого Арсения: “Иные из этих справщиков едва азбуке умеют, а уж наверное не знают, что такое буквы согласные, двоегласные и гласные, а чтоб разуметь восемь частей речи и тому подобное, как-то: род, число, времена, лица, наклонения и залоги, – так этого им и на ум не приходило”. У таких справщиков, набранных по знакомству и дружбе, незнание дела видно было на каждом шагу; все нелепости, введенные суеверными и невежественными священниками, оказались внесенными в исправленные книги. Так, например, в молитвах на рождение младенца упоминается какая-то Соломия; кроме того, в отпусках говорилось о праздниках, как о лицах наравне со святыми, например: “Молитвами пречистая твоея матери, честнаго ея Благовещения или честнаго ея Успения, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец”. Непосильные труды свели Арсения в Соловки и после его изгнания патриарх созвал форменную комиссию справщиков; сюда вошли царский духовник Стефан Вонифатьев, протоиерей Казанского собора Иоанн Неронов, дьякон Благовещенского собора Федор Неронов и иногородние протоиереи: юрьев-повольский Аввакум Петров, муромский Логгин, романовский Лазарь, суздальский Никита Пустосвят и костромской Даниил.
Как на смех, все эти новые справщики, правда, начитаннее своих предшественников, были отъявленными врагами ревизионного духа, охватывавшего тогдашнее московское духовенство все сильнее. Увидев перед собою множество разнородных списков и не понимая даже, как взяться за исправление, справщики стали руководиться обычаем, полагаясь на свою начитанность: что казалось им наиболее общепринятым, то и входило в заново отпечатанные книги. Отпечатав массу вздора, они воображали, что исполняют свои обязанности в совершенстве, и в этом их поддерживал царский терем, где нравились их сладкоглаголивые речи об оскудении веры и о претерпенных за правду гонениях. Дело было в том, что многие из этих справщиков вынуждены были бросить свои места и семьи в провинции из-за изуверства и корыстолюбия и ютились на даровых хлебах около Вонифатьева, Неронова и коломенского епископа Павла.
Тем временем в Москву приехал упомянутый уже раньше иерусалимский патриарх Паисий и открыто заметил, что в русской церкви он находит немало нововведений, которых не было и нет в восточных церквах. По настоянию Никона, смущенного этими разоблачениями, но не доверявшего вполне греку, келарь Арсений Суханов поехал за справками на Восток. Пока Суханов ездил по Греции, Сирии, Палестине, Египту и Грузии, Москву посетил константинопольский патриарх Афанасий и почти слово в слово повторил обвинения Паисия, особенно относительно двуперстия и произвольного искажения богослужебных книг. Патриарх Иосиф сильно встревожился и не знал, что делать, так как два патриарха обвиняли его чуть не в ереси; посольство охридского патриарха высказалось в том же духе, а афонские монахи даже сожгли богослужебные книги московской печати, как не согласные с чином православного богослужения. Такой поступок уважаемой всеми обители заставил Иосифа окончательно пасть духом, так как восточные церкви могли потребовать от Алексея Михайловича низложения патриарха, вводящего ересь, а корыстолюбивому старцу было, конечно, страшно потерять патриаршие доходы.
Быстрая кончина избавила его от душевных страданий, и царю было немало хлопот лично произвести опись имущества покойного, так как списков дорогим материям, серебряной посуде, дорогому оружию и другим вещам не было и патриарх лично заведовал всем, не допуская келейников. “Прости, – писал Алексей Михайлович Никону в Соловки, – владыка святой, и половины не по чем отыскать, потому что все без записки; не осталось бы ничего, все бы разокрали, да и в том меня, владыка святой, прости, немного и я не покусился иным сосудом, да милостью Божией воздержался и вашими молитвами святыми. Ей-ей, владыка святой, ни маленькому ничему не точен”. Оказалось, что “свет-патриарх” не по-христиански обращался со своими подчиненными: “Все вконец бедны, и он, свет, жалованья у них гораздо убавил”, – сообщает царь в том же письме Никону. Легко понять, что патриарх Иосиф не был единичным явлением среди духовенства, которым он управлял десять лет; почти повсеместно замечалось то же самое: многие священники и епископы как-то ухитрялись сочетать набожность, уважение к букве церковного закона, даже подвижничество с алчностью, корыстолюбием, лихоимством и сластолюбием. Аввакум Петров, назначенный Алексеем Михайловичем протоиереем в Юрьев-Повольский, пробыл в городе всего восемь недель и так вооружил против себя народ, что его избили до полусмерти батогами, и воевода едва спас, прибежав с пушкарями к скопищу, его самого и семью. Ночью Аввакум бежал в Кострому; оказалось, что и с тамошним протоиереем народ вынужден был поступить одинаково, и Данила также тайком бежал. Оба нашли приют у Вонифатьева и попали в справщики книг.
Глава V. Начало русского раскола
Переход от патриарха Иосифа к патриарху Никону был очень резок, и это все сознавали, начиная с самого Никона. Он ясно видел положение русской церкви, дошедшей вследствие национального самомнения и исторической обособленности до состояния, которое восточные ревнители православия прямо называли ересью. Он видел, что русское духовенство довело себя до такого состояния, что рядом с традиционным уважением к священнику и монаху того и другого поколачивали без милосердия, обращались с ними презрительно, не видя в них ничего заслуживающего почтения. Лихоимство, тунеядство и распущенность нравов сделались обычным явлением среди духовенства, не говоря уже о почти повальном невежестве и малограмотности, доводящих до искажения церковных обрядов. Из-за всего этого истинной религиозности почти не стало, ее заменило какое-то казенное благочестие, состоящее в возможно точном исполнении внешних обрядовых приемов, которым приписывалась символическая сила, дарующая Божью благодать; буква искаженного подчас обряда давно уже камнем лежала на русской духовной жизни, лишая последнюю внутреннего смысла и содержания. “Чтобы получить то-то и то-то, надобно сделать то-то и то-то”, – вот коммерческая формула, в которую отлилась религиозная идея русского человека XVII века. А рядом с этим пробуждалось сознание, что духовенство как служитель и представитель Бога на земле должно быть безукоризненно, должно пользоваться общим уважением и должно быть ограждено от произвола светских властей и насилия прихожан над своею личностью. Сильный толчок в этом направлении дан был патриархом Филаретом; не только духовенство, но и светские лица сознавали ясно, что со вступлением его в управление церковью, и в управление самодержавное, без опеки бояр и приказных, дела пошли лучше и многие безобразия и беспорядки прекратились. Духовный Великий Государь как вдохновитель и руководитель стал вмешиваться в государственные дела, и в них появилось улучшение; политический организм, расшатанный в смутное время, снова окреп и сплотил народ вокруг самодержавного светского Великого Государя.
Все это сознавал Никон. Он видел, что преемник Филарета унизил достоинство патриарха до такой степени, что Алексей Михайлович вынужден был как бы оправдывать покойного перед его прислугою: “Есть ли из вас кто-нибудь, кто бы раба своего или рабыню без дела не оскорбил? Иной раз за дело, а иной раз, пьян напившись, оскорбит и напрасно побьет; а он, великий святитель и отец наш, если кого и напрасно побил, от него можно потерпеть, да уж что бы ни было, так теперь пора всякую злобу покинуть. Молите и поминайте с радостью его, света, елико сила может”. А между тем, патриарх Иосиф многим был по душе, поддерживая малограмотных, тунеядцев, но приносящих дары. Никон понимал, что его предшественник дискредитировал патриарший сан не только в русском государстве, но и за пределами его; очевидно, что он не мог даже желать идти по его следам. Его идеалом был Филарет, он хотел из уважения к принятому сану быть Великим Государем над церковью, которой он отдал лучшие годы своей жизни и величие которой всегда составляло его задачу. Ревностно и с обычною ему суровою энергиею принимаясь за дело достижения единообразия в церковной обрядности, он логически должен был сделаться борцом за независимость и верховность своей патриаршей власти. Будь Алексей Михайлович менее податливым на выслушивание придворных сплетен и не попадись Никону на дороге кучка тупоголовых изуверов, трудно сказать, какова могла бы быть дальнейшая история России. Самому же Никону не доставало научного образования, чтобы смелее и увереннее вести задуманную реформу, и житейской изворотливости, чтобы ладить и держать в руках темную клику Салтыковых, Стрешневых, Морозовых, Трубецких, Одоевских, Долгоруких и других. Чересчур прямолинейный по характеру Никон не мог и не умел лукавить и вести дипломатическую игру с теми, чье дело, по его мнению, было повиноваться, а не умничать.
25 июля 1652 года сын крестьянина Мины вступил в управление Всероссийским патриархатом. Следуя обычаю, издавна установившемуся среди высших иерархов русской церкви, первым делом его было основать для себя новый монастырь и прославить его новою святынею. Для этой цели Никон выбрал намеченный им раньше островок на озере Валдай и назвал новоучреждаемую обитель Иверским Богородичным монастырем в честь Иверской Божией Матери, икона которой находится в афонском Иверском монастыре с 31 марта 999 года. В то же время он отправил знающего человека на Афон, с согласия иверского архимандрита Пахомия, гостившего в Москве, сделать точную копию Иверской иконы и, когда каменная церковь была построена, поставил в ней эту икону, украсив ее золотом и драгоценными каменьями. Вместе с тем Никон перенес 23 ноября в новый монастырь мощи преподобного Иакова, чудотворца Боровичского (скончался 22 мая 1544 года). Таким образом, новооснованная обитель сделалась предметом двойного поклонения; вскоре пошли слухи о совершающихся в ней чудесах и исцелениях. Алексей Михайлович, сочувствуя доброму делу “собинного друга” и желая поддержать его, приписал к Иверскому монастырю пригород Холм с крестьянами, деревнями и угодьями. Затем Никон перенес сюда из Хутынского Спасо-Варлаамиева монастыря типографию, заведенную им еще в 1650 году, в бытность новгородским митрополитом; здесь были напечатаны, между прочим, “Учебный часослов”, “Рай мысленный” Стефана Святогорца и произведения самого Никона: “Сказание об Иверской иконе”, “Сказание о созидании Онежского Крестного монастыря”, “Поучение к духовным и мирским”, “Канон молебный о соединении веры”, “Книга кормчая”, “Поучение о моровом поветрии”, “Пища духовная” и другие.
Но, исполняя дело, соответствующее его искреннему религиозному чувству и выраженное в общепринятой форме, Никон обратил серьезное внимание на задуманную реформу или, лучше сказать, коренное исправление текста богослужебных книг. Келарь Суханов еще не возвратился из-за границы, и Никон начал сам рыться в рукописях богатого патриаршего книгохранилища, поступившего в его распоряжение. Там он обратил внимание на грамоту восточных патриархов, присланную по случаю учреждения в России патриархата при Федоре I Ивановиче; в этой грамоте было сказано, между прочим: “Православная церковь приняла свое совершение не только по благоразумию и благочестию догматов, но и по священному уставу церковных вещей; праведно есть нам истреблять всякую новизну ради церковных ограждений, ибо мы видим, что новины всегда были виною смятений и разлучений в церкви; надлежит последовать уставам святых отцов и принимать то, чему мы от них научились, без всякого приложения или умаления. Все святые озарились от единого Духа и уставили полезное; что они анафеме предают, то и мы проклинаем; что они подвергли низложению, то и мы низлагаем; что они отлучили, то и мы отлучаем; пусть православная великая Россия во всем будет согласна со вселенскими патриархами”. Необходимость исправления искажений и произвольных вставок была очевидна по этой грамоте авторитетных иерархов, и в первом изданном при нем Служебнике Никон велел поместить в предисловии приведенный отрывок как бы в оправдание своих действий. Тут же, в библиотеке, Никон обратил внимание на саккос[6 - Саккос – архиерейское облачение (В. И. Даль)] митрополита св. Фотия (скончался 2 июля 1431 года), родом грека; символ веры, вышитый на этом саккосе, разнился с тем, который читали в первой половине XVII века: в старом не было прибавления слова “истинного” о св. Духе, а Никон знал, что против этой прибавки уже раздавались голоса раньше его; кроме того, на саккосе было вышито: “Его же царствию не будет конца”, – а вокруг Никона все читали: “Его же царствию несть конца”. Все эти находки только сильнее убеждали патриарха в необходимости исправления искаженного текста; но исправления тщательного, при содействии действительно знающих людей, а не “мужиков-горланов”.
Иеромонах Арсений, сосланный на покаяние в Соловецкий монастырь патриархом Иосифом, заподозрившим благодаря усердию справщиков его в латинстве, был немедленно возвращен Никоном. Проверка текстов снова перешла к Арсению, а Никон благодаря боярину Ртищеву познакомился с иеромонахом Киевского Братского монастыря Епифанием Славинецким, приехавшим в Москву по приглашению боярина “ради обучения словенороссийского народа детей эллинскому наказанию”. Славинецкий был характера кроткого, сосредоточенного, предпочитал уединенную жизнь кабинетного ученого всяким исканиям почестей, не терпел никаких житейских дрязг и был всем сердцем предан науке; он умел уживаться со всеми, никого не раздражал заявлением о своем умственном превосходстве и своею безукоризненною честностью приобрел всеобщее уважение. Познакомившись с ним, Никон полюбил его и изменил свое навеянное окружающими предубеждение против малорусов. В это время возвратился келарь Арсений Суханов из своей поездки и 26 июля 1653 года подал царю и патриарху свой отчет о командировке на Восток; его записка носит название “Проскинитарий”, то есть “Поклонник”. Суханов описал свое путешествие по греческим островам, а также пребывание в Александрии, где долго беседовал с патриархом Иоанникием, в Иерусалиме и Тифлисе; оставаясь приверженцем русской старины, он описал черными красками поведение восточно-православного духовенства и недостаток благоговения при богослужении, но при этом правдиво указал, что на востоке повсеместно употребляется троеперстное крестное знамение и соблюдаются, опять-таки повсеместно, те именно обряды и порядки, в нарушении которых греческие иерархи укоряли русскую церковь.
Таким образом, слова патриарха Паисия, впервые открывшего глаза Никону на беспорядки и заблуждения, приобретали серьезное значение и требовали немедленного исправления недостатков. По этим-то побуждениям решительный и деятельный патриарх обратился к Алексею Михайловичу с предложением созвать русский поместный собор. Царь дал свое согласие и лично присутствовал с боярами на этом соборе, на который прибыли: митрополиты Макарий Новгородский (преемник Никона), Корнилий Казанский, Иона Ростовский, Сильвестр Крутицкий и Михаил Сербский, архиепископы Михаил Вологодский, Софроний Суздальский и Мисаил Рязанский, епископ Павел Коломенский, несколько архимандритов и протоиереев, – всего 34 человека. В качестве председательствующего Никон открыл заседание и, по своему прямодушию, произнес речь, в которой без стеснений высказал свой взгляд на равенство церковной власти со светскою. “Два великих дара, – начал он, – даны человекам от Вышнего по Божьему человеколюбию – священство и царство. Одно служит божественным делам, другое владеет человеческими делами и печется о них. Оба происходят от одного и того же начала и украшают человеческое житие; ничто не делает столько успеха царству, как почтение к святителям (святительская честь); все молитвы к Богу постоянно возносятся о той и другой власти… Если будет согласие между обеими властями, то настанет всякое добро человеческой жизни”. Провозглашая громко перед всем собранием принцип теократизма в государстве, Никон не прятался и не скрывался, как лукавый дипломат, стремящийся окольными путями к цели; если бы смысл его речей задевал и оскорблял самолюбие самодержавного царя, то охлаждение должно было бы немедленно наступить между Алексеем Михайловичем и Никоном. Однако мы видим обратное, так как во время войны с Польшею патриарх был регентом государства по выбору царя. Высказав свой взгляд на предержащие власти, Никон перешел к интересующему его предмету исправления книг; объяснив весь ход событий, свои беседы с Паисием, находки в книгохранилище и докладе Суханова, он продолжал: “Надлежит нам исправить как можно лучше все нововведения в церковных чинах, расходящиеся с древними славянскими книгами. Я прошу решения, как поступать: последовать ли новым московским печатным книгам, в которых от неискусных переводчиков и переписчиков находятся разные несходства и несогласия с древними греческими и славянскими списками, а прямее сказать, ошибки; или же руководствоваться древними греческим и славянским текстами, так как они оба представляют один и тот же чин и устав”. На этот вопрос ответ последовал такой же, какой давался не раз при прежних патриархах: “Достойно и праведно исправлять, сообразно старым харатейным и греческим спискам”. Только епископ Коломенский Павел, протоиерей Иоанн Неронов и Аввакум Петров, да два или три архимандрита, оскорбленных публичным признанием их невежественности, удалились с собора, не подписав его постановлений.
Собор уничтожил колебания патриарха, хорошо понимавшего всю важность предстоявшего дела. Не прошло нескольких дней после закрытия заседаний, как комиссия справщиков книг была формально отставлена от должности по причине своей полной несостоятельности и некомпетентности в корректурных работах. Скромный Славинецкий, проживавший с киевскими сотоварищами в новопостроенном Андреевском Преображенском монастыре на иждивении боярина Ртищева, по царскому указу был назначен справщиком (то есть фактором) типографии и получил квартиру при училище в Чудовом монастыре. Патриарх поручил Славинецкому, главным образом, дело исправления книг, и образованный иеромонах приступил к своей задаче неторопливо, с разумною обдуманностью. По его настоянию келарь Суханов вторично был отправлен на Восток за различными старинными рукописями, хотя уже при первой поездке доставил до 700 драгоценных рукописей, “овым убо от них от того времени, егда писаны, преидоша 700 лет, овым же 500, овым 400 лет”. Только окружив себя громадным количеством греческих и славянских списков, принялся Славинецкий за самое исправление текстов; помощниками его были два приехавших с ним земляка Арсений Сатановский и Данила Птицкий, побывавший в Соловках иеромонах-грек Арсений, священник Никифор, иеродиакон Моисей, бывший игумен Сергий, монах Евфимий и книгописцы печатного дела Михаил Родостамов и Фрол Герасимов. Пока серьезные труженики принимались толково за свое дело, оскорбленные бездарности сошлись между собою и образовали коалицию против патриарха Никона; сильные поддержкою ничего не понимающих женщин и отъявленных старинолюбцев из бояр, Неронов и Петров начали проповедовать по Москве, что патриарх по скудоумию поддается наущениям киевлян, зараженных латинскою ересью, и допустил к делу уличенного латынщика, грека Арсения. В своих письмах к друзьям Неронов скромно обходит молчанием вопрос о неожиданной отставке и об исправлении книг, сознавая, конечно, в душе, что патриарх поступил по справедливости, но зато он усердно нападает на Никона за его жесткость и резкость в обращении, явно рисуясь своими страданиями и своим геройством. “Патриарх, – читаем мы в одном его письме, – мучитель, терзает свою братию членов церкви, творит над ними поругание, одних расстригает, других проклинает. Беззаконное дело будет быть у него в послушании без прекословия. Он хочет, чтоб мы просили у него прощения; пусть он у нас просит! Государь всю свою душу и всю Русь положил на патриархову душу; нехорошо так мудрствовать государю!” За такое явное подстрекательство к неповиновению высшей духовной власти энергичный начальник распорядился бы гораздо круче, чем на первых порах поступил Никон. Этот патриарх, которого Н. И. Костомаров обвиняет чуть не в мании величия, не знал даже, до каких пределов может дойти религиозное изуверство и фанатизм ограниченных людей; он рассчитывал повлиять на членов оппозиции более мягкими мерами, предполагая в них более здравого смысла и благоразумия. Большая часть непокоренных была давно знакома ему, многие из них были земляками его по месту рождения – а это-то отчасти и разжигало страсти; все эти Павлы, Иоанны и Аввакумы с горечью относились к тому, что их, природных поповичей, взялся учить и муштровать мужицкий сын, которого чуть не на их глазах простая баба-мачеха таскала за вихры. Между тем, серьезный и осторожный патриарх, желая придать более беспристрастный характер своим отношениям к оппозиции и саму реформу поставить на нейтральную почву, отправил к константинопольскому патриарху Паисию длинное письмо через какого-то грека Эммануила; невольно смотря на Паисия как на своего учителя, Никон предложил ему в письме 26 вопрошений, которые касались различных сторон богослужебных обрядов и в том числе спорных пунктов. Вместе с тем, Никон высказывал свое неудовольствие на поведение коломенского епископа Павла, приходившегося шурином патриарху по линии умершей уже жены последнего, Настасьи Ивановны, протоиереев Неронова, Петрова и на их сообщников. Опасаясь своего пристрастия, московский патриарх обращался за советом к константинопольскому: как поступить ему с непослушными, чтобы соблюсти справедливость?
Ответ из Константинополя был доставлен только в 1655 году. Патриарх Паисий извещал, что он созывал в Константинополь поместный собор, на котором “вопрошения” Никона были рассмотрены и затем на них были составлены ответы.
“Вижу, – писал Паисий, которому нравилась роль верховного учителя, – в грамотах преблаженства твоего, что ты жалеешь о несогласиях, возникших по поводу некоторых церковных чинов, и думаешь, что это различие чинов растлевает веру нашу. Хвалим твою мысль: кто бережется малого преступления, тот соблюдается от великого. Еретиков и раздорников следует убегать, если они соглашаются в самых важных предметах, но не вполне согласны с православием и придерживаются чего-нибудь своего, чуждого церковной и соборной мысли. Но если случится, что какая-нибудь церковь различествует от другой в некоторых не особенно важных и несущественных вещах, то есть не прикасающихся свойственным составам веры, например, во времени отправления богослужения и тому подобном, то это не должно быть поводом к разлучению, лишь бы только непреложно сохранялась та же вера. Церковь наша не сначала приняла на себя тот образ и последование, какое держит ныне; не сразу, а помалу”. При этом Паисий ссылается сначала на Епифания Кипрского в том, что церковь в разных местах принимала различные степени поста и мясоедения, потом на Василия Великого, из которого видно, что неокесарийская церковь не принимала того, что принималось в других местах. Затем патриарх продолжает: “Не следует и ныне думать, будто наша православная вера развращается оттого, если один говорит свое последование немного различно от другого в несущественных вещах, лишь бы только согласовался в важнейших, свойственных соборной церкви”. Представив подробное объяснение литургии, Паисий говорит: “Именем Иисуса Христа молим твое преблаженство, утоли эти распри твоим разумом; не подобает ссориться рабам господним, а наипаче в вещах неважных и несущественных; увещевай их принять сей чин, который мы пишем вам, которого держится вся восточная церковь. Изначала у нас, по преданию, он сохраняется; ни в единой вещи не было изменения; за это нам хвала, потому что прочие церкви, отделившись от нас, приняли многие нововведения, а мы ничем не растлеваемся”. Переходя к ослушникам патриаршей воли, Паисий сурово порицает их и дает совет подвергнуть их отлучению, если они не примут нелицемерно все так, как “держит и догматствует церковь”, он сравнивает их с арианами, кальвинистами и лютеранами, которые под видом исправления покинули “недвижное и истинное” в церкви… “Все это знамение ереси и раздора, и кто так говорит и верует, как они, тот чужд православной нашей вере. Их молитвы – хулы, потому что они полагают в сомнение моление наших святых и затевают вводить новые чины, которым мы никогда не научились от наших отцов, предавших нам веру”. Относительно крестного знамения патриарх Паисий указывает на сложение трех первых перстов как на древнейший обычай поклонения и различает молебное перстосложение от благословящего. “До нас дошло, – замечает патриарх в конце письма, – что в ваших церковных чинах есть еще кое-какие различия, не согласные с нашею восточною церковью; удивляемся, что ты о них не спрашиваешь. Желаем, чтобы все это исправилось”. И при этом Паисий порицает русских за то, что в их церквах женщины и мужчины сходятся вместе и во время богослужения не стоят раздельно: “Женщине следует безмолвствовать, а тут невозможно сохранять безмолвие, когда сойдется с женщинами много мужчин разного возраста”.
Вникнув в содержание обстоятельного письма Паисия, Никон снова предложил Алексею Михайловичу созвать собор, который на этот раз вышел блестящим и представительнейшим: кроме большого числа русских епископов, в Москве были антиохийский патриарх Макарий, сербский патриарх Гавриил и митрополиты Григорий Никейский и Гедеон Молдовлахийский. Выслушав ответ константинопольского патриарха, собор постановил выполнить его указания и держаться решения предшествовавшего московского собора, то есть продолжать по-прежнему исправление текста богослужебных книг. Патриарх Макарий энергически подтверждал правильность троеперстия. “Мы приняли, – заявил он, – предание изначала веры от св. апостолов и св. отцов и семи соборов творить знамение честного креста тремя первыми перстами десной руки, и кто из христиан православных не творит крестного знамения по преданию восточной церкви, сохраняемого от начала мира до сих пор, тот еретик и подражатель арменов; того ради, мы считаем такового отлученным от Отца и Сына и св. Духа и проклятым”. Никейский митрополит добавил к этому: “На том, кто не крестится тремя перстами, пребудет проклятие трехсот восьмидесяти святых отцов, собравшихся в Никее, и прочих соборов”. Таким образом, этот собор объявил решительную войну двуперстному сложению.
Беспристрастная история отметила тот непреложный факт, что всякая идея на религиозной основе, как бы она ни была нелепа сама по себе, становится живучею, если ее захотят истребить насильственным путем; подтвердить это может вся история христианства, в которой кровавые страницы отмечают борьбу с арианами, несторианами, манихеями, альбигойцами, гуситами, лютеранами и русскими старообрядцами. Никон, несмотря на свой природный ум, силою обстоятельств вращался с самого детства в такой умственно ограниченной среде, что не мог достичь понимания этого важного исторического закона, а потому, поддержанный нравственно постановлениями московских соборов, решительно взялся за очищение русской церкви от всего нанесенного с течением времени невежественным русским духовенством и этим дал возможность своим противникам предстать мучениками, к которым примкнули все те элементы, какие нашлись в обширной России и которые были политически недовольны московскими порядками. Вот почему на первых же порах раскол ярче вспыхнул в пределах бывшей новгородской республики, перекинулся к казацкой вольнице на Дон и Яик, а с беглыми ушел в Сибирь и прочно осел там.
В изданном вскоре после второго собора “Служебнике” с исправленным текстом появилось предисловие, в котором изложены поводы, побудившие патриарха к исправлению богослужебных книг, и деяния первого поместного собора, одобрившего предприятие Никона. Этот “Служебник” предписано было рассылать повсюду и немедленно вводить в употребление; патриарх рассчитывал по простоте душевной, что у священников хватит здравого смысла настолько, что они проникнутся доводами предисловия и в таком духе станут поучать народ; последствия показали его ошибку. Вслед за тем грек Арсений окончил перевод с греческого книги “Скрижаль”, заключающей в себе порядок и объяснение литургии и таинств: сюда было добавлено изложение бывших при Никоне поместных соборов, ответ константинопольского патриарха Паисия и статьи, относящиеся к вопросу о крестном знамении в защиту троеперстного сложения. В апреле 1656 года был созван третий поместный собор, на который Никон представил свою “Скрижаль”; собор утвердил ее и еще раз произнес проклятие над двуперстниками, а вместе с тем, предано проклятию слово какого-то Феодорита, на которого ссылались двуперстники как на авторитет. Рьяные противники реформы с ужасом толковали, что Никон и согласные с ним члены собора признали, таким образом, еретиками всех святых русской церкви, которые, без сомнения, употребляли двуперстное знамение.
По совету, данному константинопольским патриархом Паисием, Никон решился наконец поступить жестче с ослушниками своей воли, но решился опять-таки не сразу, как это видно из автобиографии Аввакума Петрова: “В пост Великий прислал память к Казанской к Неронову Иоанну. В памяти Никон пишет год, число: по преданию святых апостол и святых отец не подобает в церкви метания творити на колену, но в пояс бы вам творити поклоны, еще же и тремя персты бы крестились. Мы же задумались, сошедшись между собою: видим, яко зима хощет быти; сердце озябло и ноги задрожали. Неронов приказал мне церковь, а сам един скрылся в Чудов, седмицу в палатке молился и там ему от образа глас был во время молитвы: время приспе страдания, подобает вам неослабно страдати. Он же мне плачучи сказал, таже коломенскому епископу Павлу, его же Никон напоследок огнем сжег в новгородских пределах, потом Даниилу, костромскому протопопу, таже сказал и всей братии. Мы с Даниилом написахом из книг выписки о сложении перст и о поклонах и подали Государю. Много писано было. Он же, не вем где, скрыл их; мнит ми ся, Никону отдал”. Только после всего этого Павел Коломенский был лишен сана и сослан в один из новгородских монастырей, Неронов же был лишен скуфьи[7 - Скуфья – ало-синяя бархатная шапочка, знак отличия для белого духовенства (В. И. Даль)] и затем сослан в Вологодский Спасо-Каменный монастырь на Кубенском озере, откуда его перевели в Кольский острог. Царский духовник Стефан Вонифатьев, лишенный должности, которую занял протоиерей Лукиан, скоро покорился и сам стал ходатайствовать за Неронова, который, получив прощение Никона, постригся в монахи под именем Григория и вскоре умер, оплаканный как первая жертва никонианцев. Аввакум Петров, самый фанатичный противник преобразования, был схвачен стрельцами, продержан около месяца в Андрониевом монастыре и затем с женою и детьми отправлен в Даурию на поселение, хотя архиепископ Тобольский Симеон долго не отпускал его из Тобольска, очевидно, сочувствуя “страстотерпцу”. Протоиерей Логгин Муромский, Данила Костромской, Данила Темниковский и архимандрит Ферапонт Чудовской были разосланы по разным городам в тюремное заключение и там, взмутив народ, скоро умерли. Но, ясное дело, этими ссылками и заточениями нельзя было прекратить волнение, которое только разрасталось при появлении “мучеников”. Когда патриарх разослал свои новые богослужебные книги и приказал служить по ним и креститься тремя перстами, ропот поднялся разом во многих местах: протоиереи Никита Пустосвят Суздальский и Лазарь Романовский возбудили народ к неповиновению, а Соловецкий монастырь, исключая немногих старцев, восстал в 1666 году, руководимый старцами Никанором, Азарием и Геронтием.
Глава VI. Патриарх и великий государь
“Великий Государь, святейший Никон, архиепископ Московский и Всея Великия, Малыя и Белыя России и многих епархий, земли же и моря сея земли патриарх”, – вот официальный титул, который сам государь употреблял в документах. Подготовленный Алексеем Михайловичем еще в звании архимандрита быть докладчиком по жалобам на приказных и на воевод, Никон привык вмешиваться в светские дела; в Новгороде это вмешательство усилилось вследствие прямо выраженного желания царя видеть в митрополите не только ходатая за обиженных, но и контролера над местною администрациею. Очевидно, достигнув патриаршего престола, “собинный друг” не мог исключительно заниматься духовными делами; Алексей Михайлович сам привык часто обращаться к нему за советами и поступать согласно его указаниям. Своевольным и надменным боярам не нравилось, что “чернец из мужиков” принимает с ними тон начальника, он больше приказывает, чем просит, ни в какие сделки не вступает и прямо дает почувствовать, что он “второй Великий Государь”. Этот второй государь был энергичнее, последовательнее и строже добродушного Алексея Михайловича, податливого на лесть и охотно выслушивающего придворные сплетни. Никон не стеснялся в выборе выражений и в своих действиях, если замечал несогласие, по его мнению, со святостью веры и со справедливостью царя. Доставили многим “либералам” того времени иконы иностранного мастерства – Никон возмутился этим и без рассуждений велел отобрать иконы как не соответствующие общепринятому византийскому складу; затеяли бояре развлекаться музыкою во время поста – патриарх нашел это безнравственным, арестовал почти пять возов различных музыкальных инструментов, свез все это за Москву-реку и там торжественно сжег. Заводчик и пушкарь Питер Марселис позволил себе курить в присутствии патриарха, и за это его высекли кнутом, тем более, что Никон ненавидел “богомерзкое зелье, чертову траву”, то есть табак. Недоверчивый к иноземному, как большинство русских того времени, Никон трудно сходился с заморскими обычаями и большую часть из них преследовал постоянно. Однажды, заметив на слуге боярина-дворецкого Никиты Ивановича Романова необычный наряд, он узнал, что это ливрея; немедленно эта ливрея была вытребована у царева родственника и изрезана на куски.
Такая строгость в преследовании иноземщины и всего противного духу строгого православия усиливалась относительно духовенства. Если бояре не терпели патриарха Никона за постоянное вмешательство в мирские дела и за его резкие выходки, то духовенство было просто озлоблено из-за беспощадной строгости архипастыря и неизбежных притеснений его приказных. Никон требовал от священников трезвой жизни, точного исполнения треб и, сверх того, заставлял их читать в церкви поучения народу – новость, которая крайне не нравилась невежественному духовенству; а между тем, Никон не требовал больше того, что сам делал, будучи десять лет священником. Строгий пурист в делах веры, Никон становился беспощадным с нерадивыми, небрежными и склонными к вину; таких ему ничего не стоило посадить на цепь, помучить в тюрьме или же сослать куда-нибудь на нищенскую жизнь в бедный приход. Страшен был рослый мордвин, облачение которого весило до двенадцати пудов, и трепещущие священники в ужасе спрашивали: “Знаете ли, кто он? зверь лютый, медведь или волк?” Распущенность и тунеядство московского духовенства бросались в глаза, и патриарх, чтобы подтянуть и проучить священников, взял за правило часто переводить их из церкви в церковь, из прихода в приход. Это было разорительно не только в связи с неизбежными расходами при перемещении с места на место, но еще и потому, что такие переводимые священники должны были брать в Москве “перехожие” грамоты, а пока их не достанут, проживать в столице. Между тем, приказная братия, подчиненная патриарху, не дремала и исправно набивала свои карманы взятками, поборами и подарками, усиливая этим в огромных размерах общую нелюбовь к Никону. Если бы патриарх был поопытнее в приказных крючкотворствах, то можно наверное сказать, что большей половины притеснений и прижимок не существовало бы. Но патриарший дьяк Иван Кокошилов – наследие от патриарха Иосифа – бесцеремонно грабил всех, имевших дело в патриаршем приказе, не только сам, но даже через свою жену и прислугу. Никон по неопытности был в руках Кокошилова.
В то время, как бояре и духовенство не знали, как избавиться от досаждавшего им Никона, царь Алексей все больше и больше привязывался к своему “собинному другу”. Он ценил его практический ум, любовь к родной земле и понимание ее интересов; поэтому с переселением из Новгорода в Москву Никон, помимо обширного духовного ведомства, принимал деятельное участие в светских делах. До него важнейший доход казны – продажа напитков – отдавался обыкновенно на откуп, тем более, что откупная система применялась и в сборе налогов и пошлин. Патриарх, близко знакомый с народною жизнью, доказал царю, что откупной порядок чересчур тягостен для народа и, кроме того, вредно отражается на его нравственности. Дело в том, что откупщики, заплатив в казну деньги вперед, старались всеми возможными способами вернуть эти деньги с процентами и, кроме того, разжиться на кабаках, которые становились разорительными притонами пьянства, мазурничества и всякого беззакония. Помимо всего этого, Никон справедливо указывал, что определенный процент, причитающийся откупщику, остался бы в казне, если виноторговля будет прямо от казны. Вследствие таких доводов, уже в 1652 году кабаки были заменены кружечными дворами, которые уже не отдавались на откуп, а содержались выборными людьми “из луччих” посадских и волостных людей, названных “верными головами”; при них состояли выборные целовальники, занимавшиеся и курением вина. Винокурение дозволялось всем, но с обязательством доставлять на кружечный двор определенное количество вина. Мера эта предпринята была как бы для уменьшения пьянства, потому что во все посты и по воскресным дням виноторговля запрещалась, и дозволялось только, как общее правило, продавать не более тройной чарки на человека; “питухам” на кружечном дворе и поблизости его не дозволялось пить. В 1653 году, по челобитью торговцев, введена однообразная “рублевая” пошлина по десяти денег с рубля; каждый купец, покупая товар на продажу, платил пять денег с рубля и с выпиской мог везти свой товар куда угодно, но платил остальные пять денег там, где продавал. “Рублевая” пошлина отменяла собою целый ряд мелких пошлин, что для купцов представляло большое удобство. В 1654 году, следуя той же системе, правительство уничтожило откупную систему на многих казенных сборах, а именно: пошлины с речных перевозов, с телег, саней, с сена, масла, кваса, рыбы и так далее; все эти прелести заводились не только в посадах и волостях, но и самими помещиками на своих землях. Царская грамота, уничтожая это ненавистное народу наследие татарского басурманства, прямо называет эти откупы “злодейскими”, как их называл и патриарх Никон.
Осложнившиеся в это время политические события также отразили на себе влияние “собинного друга”. Малороссия вела безуспешную, хотя блестящую борьбу с Польшею, и гетман Богдан-Зиновий Михайлович Хмельницкий не раз обращался к московскому царю с просьбою принять Приднепровье в подданство России. Бояре-советчики, окружавшие Алексея Михайловича, были настолько лишены исторического чутья и политических дарований, что, не понимая задачи Москвы-собирательницы, упирались всеми силами против присоединения Малороссии. Царь вполне разделял их взгляды, и только веские и убедительные советы Никона заставили его иначе посмотреть на дело и постепенно перейти на сторону казаков. Благодаря этому московский посланник князь Борис Александрович Репнин-Оболенский явился 20 июля 1653 года в Краков и, напомнив польскому правительству старое требование о наказании лиц, делавших ошибки в царском титуле, объявил, что царь согласен простить виновных, если поляки помирятся с Хмельницким на основании Зборовского договора и уничтожат хитрое измышление иезуитов – унию[8 - уния – православные, признавшие папство под видом соединения западной и восточной церквей (В. И. Даль)]. Паны-сенаторы ответили князю, что унию уничтожить невозможно, что такое требование равносильно тому, если бы поляки потребовали уничтожения православия в Московском государстве, что греческая вера никогда не была гонима в Польше, а с Хмельницким они не станут мириться не только по Зборовскому, но даже и по Белоцерковскому договору, и намерены привести казаков к тому положению, в каком они находились до начала восстания. Тогда князь Репнин объявил разрыв дипломатических отношений и сказал, что “царь будет стоять за православную веру, за святые Божий церкви и за свою честь, как ему Бог поможет!” После этого в Москве был созван земский собор, который открыл свои заседания 1 октября и решил, “что следует принять гетмана Богдана Хмельницкого со всем войском запорожским, со всеми городами и землями под высокую государеву руку”. Патриарх и все духовенство благословили государя и всю его державу, высказав при этом: “Мы станем молить Бога, Пресвятую Богородицу и всех святых о пособии и одолении”.
Комиссарами в Переяславль были отправлены боярин Бутурлин, окольничий Алферьев и думный дьяк Лопухин. 31 декабря они прибыли в дом полковника Павла Тетери, а 8 января 1654 года генеральная рада присягнула на подданство Алексею Михайловичу. 23 апреля состоялось торжественное отправление боярина князя Алексея Никитича Трубецкого с войском в Польшу; в Успенском соборе патриарх читал всему собранному войску молитву идущим на войну, причем поминал воевод по именам; затем царь пригласил бояр и воевод на парадный обед, за которым говорил два раза речь, угощал богородицыным хлебом, медом красным и белым и объявил при этом, что сам намерен проливать кровь на войне. “Если ты, государь, – отвечали ратные люди, – хочешь кровью обагриться, так нам и говорить после того нечего! Готовы положить головы наши за православную веру, за государей наших и за все православное христианство!” Через три дня после того совершилась новая церемония: все войско проходило мимо дворца, причем патриарх кропил его святою водою, а бояре и воеводы, сойдя с лошадей, подходили к переходам, где Алексей Михайлович спрашивал их о здоровье, и они кланялись ему в землю. При этом Никон произнес речь, призывая на войско благословение Божие и всех святых; князь Трубецкой с воеводами поклонился патриарху в землю и также отвечал речью, наполненною цветистыми выражениями, и обещал от лица всего войска “слушаться учительных словес государя патриарха”. Посетив различные святыни и подкрепив себя молитвою, Алексей Михайлович отправил вперед себя икону Иверской Божией Матери и 18 мая выступил в поход, сопровождаемый дворовыми воеводами. Заметим при этом, что в эту войну впервые сражалась часть войска под названием “солдат”, заведенных в 1649 году в заонежских погостах как ядро и зародыш будущего регулярного войска в России.
Отправляясь в поход, Алексей Михайлович доверил патриарху Никону как своему ближайшему другу всю царскую семью, свою столицу и поручил ему наблюдение за правосудием и ходом дел в приказах; другими словами, Никон был назначен регентом государства. Соединяя в своих руках духовную и светскую власть, деятельный и не знающий устали Никон, естественно, навел страх на всех своих недоброжелателей и заставил их смириться. Ничего не могло сделаться в боярской думе без ведома и благословения великого государя патриарха; в качестве верховного правителя государства Никон писал грамоты по разнообразным предметам, в которых писалось: “Указал Государь, царь, великий князь всея Руси, Алексей Михайлович, и мы, Великий Государь…”. Осенью 1654 года появилась в Московском государстве заразная чума, принесенная, вероятно, через Астрахань из Персии, и патриарху было немало хлопот с этим, как народ называл, “Божьим наказанием”. Царица Марья Ильинична с детьми бежала из Москвы сначала в Троице-Сергиеву лавру, потом в Калязин, в Макариев-Троицкий монастырь, наконец, в городок Вязьму, так как в столице свирепствовала страшная смертность. Размеры этой смертности можно видеть из того, что в Чудовом монастыре из 208 монахов в живых осталось 26; в Воскресенском монастыре из 118 монахинь спаслось 38; в домах бывшего временщика Бориса Ивановича Морозова жило 362 человека, осталось в живых 19; в домах князя Алексея Никитича Трубецкого из 278 человек уцелело только 8; в Кузнецкой черной сотне из 205 человек спаслось только 32, а в Новгородской сотне из 510 человек осталось 72. Патриарх Никон сделал распоряжение поставить в разных местах заставы, чтобы на время заразы пресечь сообщение с войском, при котором находился царь, затем приказал заложить в Москве царские кладовые кирпичом и не выпускать никого с тех дворов, где появится зараза. Когда последняя усилилась, патриарх сам выехал в Калязин, поручив Москву боярину князю Михаилу Петровичу Рыбину-Пронскому.
Правительство приказывало устраивать на дорогах заставы с тем, чтобы не пропускать едущих из зараженных местностей, но это мало помогало, так как всякого пропускали на совесть, хотя за обман положена была в этом случае смертная казнь, равно как и за сообщение с зачумленными. После смерти зачумленных сжигали их платья и постели, зараженные дворы и прочие постройки промораживались недели две, после чего приказывали топить можжевельником и полынью, думая, что этим разгоняется зараза. Однако бедствия этим не кончились, и зараза появлялась в 1655 и 1656 годах, захватывая обширные районы. В Калуге из 2.613 жителей уцелело всего 777 человек, в Переяславле-Рязанском – из 3.017 человек – только 434, в Переяславле-Залесском из 4.566 человек осталось 939, в Туле из 2.568 человек – только 760, в Кашинском уезде из 2.747 посадских остались в живых 908 человек, в Торжке, Звенигороде, Угличе, Суздале и Твери число умерших было менее числа оставшихся, в Костроме, Нижнем Новгороде и окрестных городах зараза была еще легче, хотя косила народ исправно. Люди от страха разбегались куда попало, а другие, пользуясь общим переполохом, пустились на воровство и грабежи. В самой Москве двуперстники начали возмущать народ и толковать ему, что бедствие постигает православных за еретического патриарха, бежавшего из города в минуту опасности; взволновавшаяся толпа собралась на сходку к Успенскому собору, куда явился посадский Софрон Лапотников и принес икону Спасителя, на которой уже стерлось изображение. Лапотников стал уверять, что образ был выскоблен по приказанию патриарха и ему, Софрону, было от этого образа видение: велено показать его мирским людям, чтобы все восстали за поругание икон. Вскоре какая-то женщина из Калуги стала кричать всенародно, будто ей тоже было видение, запрещавшее печатать исправленные по указаниям киевских еретиков книги. Так как строгий патриарх не давал спуску тунеядцам-священникам, то многие из них находились в Москве под запрещением, а теперь, пользуясь случаем, являлись повсеместными возмутителями толпы. Оставленный в столице князь Рыбин-Пронский с большим трудом успокаивал народ, но вопрос о состоявших под запрещением священниках был настолько важен, что старосты и сотские московских сотен и слобод, не приставите к мятежникам, били челом патриарху ради всеобщего упокоения, чтобы он разрешил служить опальным священникам, так как множество церквей остается без богослужения, некому напутствовать умирающих и погребать мертвых. В ноябре 1655 года Алексей Михайлович возвратился торжественно из похода в Москву и был встречен тремя патриархами: Всероссийским, Александрийским и Антиохийским; достигнув лобного места, при колокольном звоне и пушечных выстрелах царь приказал спросить весь мир о здоровье; вся несметная толпа народа гаркнула “многие лета” государю и поверглась на землю. Освобожденный от забот регентства, Никон получил от благодарного царя официальный титул Великого Государя и материальную поддержку для осуществления своего давнишнего желания: создать монастырь на том безлюдном островке Кие, на который был выброшен более двенадцати лет тому назад монах Никон, бежавший с Соловков. Действительно, в 1656 году на месте деревянного креста, когда-то водруженного двумя беглецами, лично патриархом было положено основание Крестному монастырю “Ставрос”. В том же году была окончена в Москве постройка каменного патриаршего дома (ныне синодальная контора), а при ней церковь Двенадцати апостолов, выстроенная по образцу Константинопольской того же названия, и Крестовая палата, где происходили церковные соборы, а теперь совершается мироварение[9 - Изготовление церковного мира (В. И. Даль)]; последний собор был в 1720 году.
Занимаясь хозяйственными делами, Никон не оставлял без внимания и государственные дела. Приехавший в Москву имперский посол Алегретти, родом из Рагузы и свободно говоривший по-русски, сумел повлиять на патриарха, не любившего протестантов, и на тогдашних дипломатов: окольничего Хитрова и думного дьяка Алмаза Иванова; они втроем приложили все усилия, чтобы окончить военные действия против Польши и начать их против Швеции, король которой, Карл-Густав, покорил почти все коронные польские земли. Уже 17 мая 1656 года царь, убежденный “собинным другом”, приказал объявить разрыв шведскому посланнику Густаву Бельке, а в Вильно послал договариваться о мире князя Никиту Ивановича Одоевского. Тем временем Никон вынужден был написать всенародную грамоту, в которой убеждал не верить размножившимся до невозможного различного рода прорицателям и сновидцам, доказывая текстами из Священного Писания, что убегать от моровой язвы и вообще от бедствия вовсе не составляет греха. Но голос далеко и высоко стоящего патриарха заглушался священниками-двуперстниками, хранителями и ревнителями древнего благочестия, и народ больше верил врагам Никона, жившим среди народа, чем ему.
Богослужебная реформа, серьезно задуманная Никоном, исполнялась добросовестно ученым Епифанием Славинецким, на знания и честность которого приходилось полагаться безусловно, так как контролировать его было некому. Между тем, исправленные Славинецким богослужебные книги употребляются до сих пор без изменений не только в России, но и в славянских православных землях. Были изданы: “Служебник” с предисловием Славинецкого, “Часослов”, обе “Триоди”, постная и цветная, “Следованная псалтырь”, “Общая минея”, “Ирмолог” и “Новая Скрижаль” с объяснением литургии. Вместе с исправленными богослужебными книгами необходимо было издать также церковные законоположения в исправленном виде; с этою целью Славинецкий перевел “Правила св. апостолов”, “Правила вселенских и поместных соборов”, “Номоканон” Фотия с толкованиями византийских юристов Вальсамона и Властаря, наконец, “Собрание церковных правил и византийских гражданских законов” Константина Арменопуло. Покончив с юридическим отделом, неутомимый труженик обратился к писаниям св. отцов и перевел много сочинений, из которых некоторые были уже давно известны и любимы в славянских переводах, и тем нужнее было издать их в более правильном виде; сюда относятся четыре “Слова Афанасия Александрийского”, пятьдесят “Слов Григория Богослова”, “Беседа Иоанна Златоустого на пятидесятницу”, “Беседа Иоанна Дамаскина о православной вере” и “Слово о поклонении иконам”. Кроме того, ввиду безобразного искажения жития святых, Славинецкий перевел и напечатал жития Алексея Божьего человека, Федора Стратилата, великомученицы Екатерины и других. Не ограничиваясь в своих переводах одними религиозными сочинениями, Славинецкий оставил немало переводов светских сочинений по истории, географии, педагогике и даже анатомии.
При этом необходимо заметить, что литературное достоинство переводов ученого иеромонаха не могло особенно привлекать даже читателей; в переводе богослужебных книг встречаются тяжелые и неудобопонятные обороты, а уж тем более – в его самостоятельных произведениях. Вот образчик его слога в одном из поучений: “Изсеките душевредное стволие неправды богоизощренным сечивом покаяния, искорените из сердец пагубный волчец лукавства, сожгите умовредное терние ненависти божественным пламенем любви, одождите мысленную землю душ небесным дождем евангельского учения, наводните ее слезными водами, возрастите на ней благо-потребное былие кротости, воздержания, целомудрия, милосердия, братолюбия, украсьте благовонными цветами всяких добродетелей и воздайте благой плод правды”. В переводах его слог еще более неясный: “Всяка икона изъявительна есть и показательна, яко что глаголю, понеже человек ниже видного, нагое имать знание телом покровенней души, ниже по нем будущих, ниже местом расстоящих и отсутствующих, яко местом и летом описанный к наставлению знания и явление и народствование сокровенных, примыслися икона всяко же к пользе и благодеянию и спасению, яко да столиствуем и являемым вещем раззнаем сокровенная”. Как переводчик Славинецкий злоупотреблял буквалистским методом и хотел переводить как можно ближе к подлиннику, но, вместо того, чтобы передавать смысл подлинника оборотами, свойственными русско-славянскому языку, он создавал произвольно славянские слова на греческий лад и вводил в славянскую речь греческую конструкцию. Заметим здесь, кстати, что Епифаний Славинецкий умер в Москве 19 ноября 1675 года.
Глава VII. Разрыв и отречение
Царь Алексей Михайлович пробыл на войне с 18 мая 1654 по ноябрь 1655 года, и эти полтора года лагерной жизни, проведенные вне Москвы, покинутой первый раз в жизни, в совершенно новой обстановке, оставили глубокий след в характере царя. Он сбросил с себя прежнюю сдержанность и из богатого помещика, каким он, в сущности, был первые годы правления, постепенно превратился в царя; не теряя своего обычного добродушия, Алексей Михайлович сделался недоверчивее, реже стал появляться народу и после московских мятежей принял целый ряд предосторожностей: так, царское жилище постоянно охранялось вооруженными воинами, никто не смел подойти к дворцовой решетке, никому не дозволялось подавать прошение царю лично, при выезде царя окружали стрельцы. В заключение всех мер был создан приказ тайных дел, положивший начало тайной полиции. Между тем, лагерная жизнь, где господствовала большая дисциплина, чем в боярской думе, приучила царя быть самостоятельнее, он проникся убеждением, что он – верховный властелин земли русской, тем более, что успехи оружия покрывали его славою, а регент, оставленный в Москве, по всем важным вопросам посылал гонцов в лагерь к царю. Идея самодержавия развивалась при самых благоприятных условиях, а особенно после провозглашения царя в Вильно великим князем Литвы. По возвращении в Москву Алексей Михайлович был искренне убежден, что в нем одном Россия имеет залог своего благоденствия и дальнейшего развития, что он один, самодержавный царь, может справиться с тяжелой задачей управления страною; это было тем более справедливо, что его окружали бездарности и посредственности, умевшие только спорить о местах и алчно кидаться на царские подачки. Естественно, что первое же столкновение с “собинным другом” оставило в царе неприятное впечатление, и если он не распорядился круто, во вкусе Ивана IV, то виною была его нерешительность, от которой он не смог избавиться за всю свою жизнь и чем умело пользовались окружающие. Столкновения же были по следующим поводам: какой-то дворянин совершил убийство, за что был осужден на казнь, и прибегнул к защите царского духовника Лукиана; тот стал просить у Алексея Михайловича помилования для преступника, но получил резкий отказ и за это не допустил его к причастию; царь пожаловался Никону, но патриарх оправдал поступок духовника. Вскоре затем Алексей Михайлович задумал развестись с Марьею Ильиничною; хотя царица никогда не благоволила особенно патриарху, но последний энергично стал противиться разводу, и царь вынужден был, во избежание соблазна, уступить. За то Богоявленский монастырь в Полоцке, зависевший непосредственно от патриарха, был отдан царем в управление епископа Полоцкого Клалиста, несмотря на все протесты оскорбленного самоуправством Никона.
С другой стороны, необходимо припомнить постоянное соперничество теократизма с монархизмом, проходящее через всю историю рода человеческого; эти два начала, духовное и светское, вели вековечную борьбу из-за преобладания в стране, и верх брала, конечно, та сторона, во главе которой была более энергичная и более талантливая личность. Пробегая мысленно ряд столетий, мы видим, что в Индии теократизм был так силен, что его не могли побороть ни восстания могущественных кшатриев, ни вторжения мусульман под начальством Баберидов, ни власть английских штыков, так что брамины сохранили и поныне то же могущество, которым обладали несколько тысячелетий тому назад. В Египте монархизм был сильнее, но и там верховным жрецам Ни-Аммуна (стовратных Фив) и Са (Саиса) удавалось брать на себя управление страною, низвергая царствующие династии. В Мидии, Вавилоне и Персии теократизм был еще слабее, но и там бывали не раз попытки подчинить себе царей. Неизменная идея теократизма повторялась и в христианстве в лице римских пап, добивавшихся полного подчинения своей власти всего христианского мира и не отказавшихся от исполнения этой мысли до настоящего времени. Из этого мы видим, что духовенство всех времен и народов всегда стояло в оппозиции светской власти и борьба между ними, в самых разнообразных формах, тянется от создания первого государства на земле до сегодняшнего дня. Суровый и прямодушный Никон, возвысясь до звания патриарха Всероссийского, вполне закономерно был предан душою и телом идее теократизма и стремился поставить власть патриарха выше власти царя. За такое в светском смысле революционное направление обвинять Никона невозможно, так как логического вывода идеи теократизма держится, строго говоря, все духовенство христианское и нехристианское, если во главе его стоят патриархи, папы, первосвященники, мастера-строители, верховные маги, старцы гор, брахматы, шейх-уль-исламы и другие.
В подтверждение того, что разрыв дружеских отношений Алексея Михайловича с Никоном произошел именно вследствие того, что они являлись представителями двух соперничающих начал – теократического и монархического, – приводим отрывок из письма Никона Дионисию, патриарху Константинопольскому: “У Его Царского Величества составлена книга (“Уложение”), противная Евангелию и правилам св. апостолов и св. отцов; по ней судят, ее почитают выше Евангелия Христова. В той книге указано судить духовных архиереев и их стряпчих, детей боярских, крестьян, архимандритов, и игуменов, и монахов, монастырских слуг, и крестьян, и попов, и церковных причетников в монастырских приказах мирским людям, где духовного чина нет больше. Много и других пребеззаконий в этой книге! Мы об этой проклятой книге много раз говорили Его Царскому Величеству, но за это я терпел уничижение и много раз меня хотели убить. Царь был прежде благоговей и милостив, во всем искал Божьих заповедей и тогда милостью Божиею и нашим благословением победил Литву. С тех пор он начал гордиться и возвышаться, а мы ему говорили: перестань! Он же в архиерейские дела начал вступаться, судами нашими овладел: сам ли собою он так захотел поступать, или же злые люди его изменили? Он уподобился Ровоаму, царю израильскому, который отложил совет старых мужей и слушал совета тех, которые с ним воспитывались”.
Кроме чисто принципиальной вражды, сюда присоединились интриги и сплетни тех людей, которые окружали царя и, что, очень естественно в данном случае, льнули и тяготели к монархизму, так как он давал им больше индивидуальной свободы, чем теократизм, представителем которого являлся беспощадный и прямолинейный монах-мордвин. Обладая гибким и льстивым языком, боярство и родовая знать не могли простить патриарху его происхождения, они ненавидели его за то, что он оттер их от царя до такой степени, что этот самый царь заставил их в ноги кланяться мужику-монаху и умолять его принять патриарший сан; эта-то ненависть и сделала их еще более речистыми. Оскорбленное самолюбие мелких в нравственном смысле людей не нашло другого оружия, как сплетни, и поэтому языки мужские и женские деятельно заработали в Москве. На патриарха сплетни сыпались градом: он-де хочет уничтожить православие, он хочет провозгласить себя папою, он ни во что не ставит царскую волю, он корыстолюбив, он убийца, он состоял в любовной связи с царевною Татьяною Михайловною, – и еще масса всякого вздора, разжигавшего страсти и усиливавшего вражду. Взгляд Никона на окружающих царя был приведен выше: “Их дело повиноваться властям, а не умствовать”, – поэтому понятно, как негодовал он, видя, что царь охотно выслушивает умствующих и видимо уклоняется от тех сердечных отношений, которые были между ними раньше. Бояре и придворные долго сдерживались и таили в себе вражду против патриарха, сознавая, что с царем, добродушным в обращении и нерешительным в поступках, ничего все-таки не поделаешь, но раз они почувствовали перемену в обращении “тишайшего” с патриархом, то, вполне естественно, принялись усердно поддерживать и раздувать враждебное настроение, не сознавая, быть может, причины, вызвавшей охлаждение между Алексеем Михайловичем и Никоном.
Еще летом 1657 года отношения между царем и патриархом были внешне настолько хороши, что только изощрившиеся придворные умели подмечать набегавшие тучки. В это время Никон занимался созданием нового монастыря, под который он приобрел землю верстах в сорока от Москвы, по берегу реки Истры, у дворянина Романа Боборыкина. Условия, на которых состоялся переход земли от одного владельца к другому, не вполне известны и больше основывались на совести, но Боборыкин принадлежал к числу таких людей, которые низко кланяются и раболепно уступают людям сильным, а затем, при первой возможности, начинают сутяжничать, оббивая пороги по всем судебным инстанциям. Приобретая землю и не заботясь о личности Боборыкина, который остался соседом, Никон сравнял холмистую местность, с трех сторон окопал рвом, вдоль которого выстроил деревянную ограду с восемью башнями, а посередине – деревянную церковь. Когда последняя была готова, патриарх пригласил Алексея Михайловича со всем семейством на освящение. Царю понравилась живописная местность, и он сравнил ее с Иерусалимом; такое сравнение приятно поразило Никона, и он задумал создать подобие настоящего Иерусалима; с этою целью келарь Суханов был снова послан на Восток, чтобы разыскать и привезти точный снимок с иерусалимского храма Воскресения. Пока келарь ездил в Палестину, патриарх дал различные названия окрестностям возникающей обители, напоминающим святые места: появились Назарет и Рама, село Скудельничье, горы Елеонская, Фавор и Гермон, а Истру переименовали в Иордан. Алексей Михайлович как набожный человек сделал пожертвование Новому Иерусалиму, царица Марья Ильинична тоже, и постройка подвигалась вперед, но так же постепенно усиливалось охлаждение между царем и патриархом, так как ни один из них не хотел уступать другому в основном вопросе. Агитация против патриарха среди придворных и одновременно противников троеперстия усиливалась, и в июле 1658 года состоялся явный разрыв, поводом к которому послужила вздорная случайность.
В Москву приехал грузинский царь Теймураз Давидович, и поэтому во дворце был большой обед, на который патриарха не пригласили. Кроме этого знака неуважения к особе “второго государя”, патриарший стряпчий князь Дмитрий Мещерский был побит окольничьим Богданом Матвеевичем Хитрово в толпе. Князь пожаловался патриарху на обиду, и Никон написал царю письмо, в котором просил суда за оскорбление своего стряпчего; царь отвечал собственноручно: “Сыщу и по времени сам с тобою видеться буду”. Однако прошло несколько дней, а Алексей Михайлович не подумал повидаться с Никоном и не произвел следствия об оскорблении князя Мещерского; очевидно, явно враждебные действия против “собинного друга” боярство и придворные позволили себе с ведома и одобрения царя, который, наконец, решился покончить с упорным сторонником теократизма. 8 июля, в день Казанской Божией Матери, царь не явился ни к вечерне, ни к обедне, не желая встречаться с патриархом, хотя тот приглашал его. 10 июля, в праздник Ризы Господней, повторилось то же самое, но в ответ на приглашение в Успенский собор царь прислал стольника, князя Юрия Ромодановского, для объяснений. Эти объяснения, повторяемые и позднее, юридически нелепы и бессмысленны, но получают серьезное значение с точки зрения, приведенной выше.
– Царское Величество на тебя гневен, оттого он не пришел к заутрени и повелел не ждать его к святой литургии, – объявил князь Ромодановский.
– За что же царь на меня гневается? – спросил спокойно патриарх.
– Ты пренебрег Его Царским Величеством, – последовал ответ, – и пишешься Великим Государем, а у нас один Великий Государь – царь!
– Я называюсь Великим Государем не собою, – возразил Никон, – так восхотел и повелел мне Его Величество. На это у меня и грамоты есть, писанные рукою Его Царского Величества.